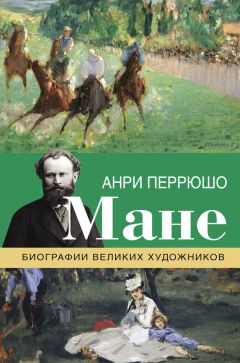Элизабет Костова - Похищение лебедя
— Что вы здесь делаете? — равнодушно спросил он.
Я шевельнула губами, но звук застрял в горле. Тогда я взяла его руку, большую, очень теплую, и он машинально сжал мои пальцы.
— Возвращайся, Мэри, — сказал он дрогнувшим (как мне показалось) голосом.
Я как подарок приняла обращение на «ты», и такое естественное.
— Я знаю, что надо бы, — сказала я, — но я увидела тебя и забеспокоилась.
— Что обо мне беспокоиться, — ответил он и крепче сжал мою руку, словно эти слова в свою очередь заставили его тревожиться за меня.
— С тобой все в порядке?
— Нет, — тихо ответил он, — но это не важно.
— Еще как важно. Всегда важно, если у человека что-то не так. — «Идиотка», — прикрикнула я на себя, но куда было деваться от его руки.
— Ты думаешь, с художником может быть все в порядке? — Он улыбнулся, и мне почудилось, что он надо мной смеется.
— Как со всеми, — упрямо ответила я и поняла, что я в самом деле идиотка, и такова уж моя судьба, и я с ней не спорила.
Он выпустил мою руку и повернулся к океану.
— У тебя когда-нибудь бывало чувство, что люди, жившие в прошлом, и сейчас существуют?
Вопрос был странным до жути, у меня по спине пробежали мурашки. Мне очень хотелось, чтобы с ним все было в порядке, что бы он ни говорил, и потому я задумалась об Исааке Ньютоне. Потом вспомнила, как часто Роберт Оливер писал исторических или псевдоисторических персонажей, вплоть до тех женщин, которых я видела вдали на его пейзаже, и решила, что для него это естественный вопрос.
— Конечно.
— Я хочу сказать, — продолжал он, словно обращаясь к прибою, — когда видишь полотно, написанное кем-то, кто давно умер, но знаешь без тени сомнения, что этот человек еще жив.
— Я тоже об этом задумывалась, — признала я, хотя его слова не укладывались в мою теорию, что ему просто нравится вписывать в свои полотна фигуры из прошлого. — Вы подразумеваете кого-то конкретного?
Он не ответил, а, чуть помедлив, обнял меня за плечо и погладил волосы на спине — продолжением жеста позапрошлой ночи. Он был удивительней, чем я думала, этот человек — в нем была не просто эксцентричность, а подлинная странность, какая-то полная сосредоточенность на своем внутреннем мире, чужеродность. Сестра Марта чмокнула бы его в щеку и ушла бы назад, и, не сомневаюсь, так поступила бы на моем месте любая здравомыслящая женщина. Я вряд ли была здравомыслящей. Его рука гладила мои волосы. Я накрыла ее своей, притянула к лицу и поцеловала.
Целовать руку — скорее, мужской, а не женский жест, выражение почтения — к августейшей особе, к епископу, к умирающему. И я выражала почтение: меня в его присутствии охватывал благоговейный трепет, к которому примешивался страх. Он повернулся ко мне, притянул ближе, закинул локоть за шею, провел ладонью по лицу, словно смахивая пыль, и притянул еще ближе для поцелуя. Меня никогда, никогда так не целовали: в его губах была самозабвенная страсть, желание, возможно, не имеющее отношения и ко мне, поглощенное самим поцелуем. Его рука подхватила меня, подняла, прижала к груди, и я чувствовала тепло его груди сквозь проношенную рубаху, и пуговки впечатывались мне в кожу.
Потом он медленно отпустил меня.
— Я этого не сделаю, — выговорил он, как пьяный. Его дыхание не пахло спиртным, даже пивом, как у меня. Он взял мое лицо в ладони и снова поцеловал, коротко, и этот поцелуй предназначался именно мне. — Пожалуйста, возвращайся.
Я, которую Маззи называла капризной, школьные учителя — несколько своевольной, а учительница рисования — дерзкой, послушно повернулась и, спотыкаясь, ушла обратно по темному пляжу.
Глава 72
1879
Ее комната в пансионе выходит на море; его, она знает, на том же этаже в другом конце коридора, значит, из нее вид на город. Обстановка у нее простая, мебель старая. На туалетном столике лежит блестящая раковина. Кружевные занавески загораживают ночь. Хозяйка зажгла для нее лампу и свечу, оставила прикрытый салфеткой поднос: тушеная куропатка, салат, холодная картофельная запеканка. Она умывается над тазиком и жадно ест. Камин холодный, его, наверное, не топят в этот сезон, берегут уголь. Можно бы попросить развести огонь, но тогда пришлось бы обратиться к Оливье: ей хочется вспомнить поцелуй на платформе, и лучше не видеть его сейчас, его усталого лица. Она снимает дорожное платье и башмаки, радуясь, что не взяла с собой горничную. Можно хоть иногда самой о себе позаботиться. У холодного камина она снимает корсет, расшнуровывает нижнюю сорочку и юбки, выскальзывает из них, как в шатер ныряет в ночную рубаху, вдыхает родной домашний запах. Она принимается застегивать пуговки на шее, но, передумав, снова снимает рубаху, расстилает на кровати и подсаживается к туалетному столику в одних панталонах. В холодной комнате кожа идет мурашками. Она больше года не видела своего тела голого выше пояса. Кожа еще молода: ей двадцать семь. Она не может вспомнить, когда Ив в последний раз целовал ее соски: шесть недель назад, четыре месяца? Этой долгой весной она забывала приласкаться к нему даже в нужные дни. Ей было не до того. К тому же он вечно в разъездах, или устал, или получает то, что ему нужно, где-то еще.
Она накрывает ладонями выпуклость груди, замечает, как блестят кольца перед горящей свечой. Оливье она теперь знает лучше, чем мужчину, с которым живет. Десятилетия жизни Оливье открыты ей, а Ив — тайна, вбегающая то в дом, то из дома, улыбаясь и восхищаясь. Она крепко нажимает обеими руками. Ее лицо в зеркале бледно от долгой поездки, шея длинная, глаза слишком темные, подбородок слишком квадратный, кудри слишком тяжелы. «Во мне нет ничего красивого», — думает она, вынимая шпильки. Она распускает тяжелый узел на затылке, волосы падают на плечи, между грудями, она видит себя глазами Оливье: автопортрет ню, которого она никогда не напишет.
Глава 73
МЭРИ
На следующий день мы с Робертом не смотрели друг на друга; собственно, я не знаю, смотрел ли он на меня, потому что к тому времени старалась не замечать ничего вокруг себя, кроме собственной руки с кистью. Пейзажи, написанные на том семинаре, до сих пор кажутся мне лучшими из моих работ. Они напряженные, я хочу сказать, полны напряжения. Даже я, глядя на них, чувствую в них ту каплю тайны, которая, по словам Роберта, необходима каждой картине. В тот последний день я забыла о Роберте, забыла о Фрэнке, не замечала соседей по столу, не замечала темноты и звезд, костра и даже собственного тела, свернувшегося в белой постели в конюшне. Я измоталась и крепко уснула. Я не знала, увижу ли в последнее утро Роберта, и не замечала спора между надеждой увидеть и надеждой не увидеть его. Все остальное оставалось на его усмотрение: так он устроил, ничего не устраивая.
Разъезд с семинара получился шумным, всем полагалось очистить помещение к десяти утра, поскольку на следующий день начиналась конференция психологов-юнгианцев и персонал должен был приготовить для них помещения столовой и конюшен. Я тщательно собрала вещмешок еще до завтрака. За завтраком Фрэнк, очень веселый, хлопнул меня по плечу — у него все было в порядке. Я торжественно пожала ему руку. Две симпатичные женщины из нашей группы оставили мне адреса электронной почты.
Роберта нигде не было видно, и от этого во мне что-то сжималось, но возникало и странное чувство облегчения, словно я чудом не врезалась в стену. Он мог уехать спозаранок, ведь до Северной Каролины добираться долго. Караван машин вытягивался по подъездной дорожке, многие с наклейками, два огромных старых автомобиля битком набиты художественными принадлежностями, одна машина разрисована вангоговскими вихрями и звездами, из окон машут руками, кричат друг другу на прощанье. Я загрузила свой грузовичок и решила переждать, а пока пройтись в лес, в ту сторону, куда я еще не ходила: там было достаточно тропинок, чтобы погулять минут сорок, не заходя слишком далеко. Мне понравился подлесок с обросшими лишайником еловыми сучьями и косматыми кустами, с просвечивающим за деревьями полем. Когда я вышла из леса, пробка уже рассосалась, остались только три или четыре машины. Одну из них загружал Роберт, я и не знала, что он приехал на маленькой синей «хонде», хотя могла бы поискать номера Северной Каролины. Его метод укладки, как видно, заключался в том, чтобы побросать все за задние сиденья, не утруждаясь упаковкой в коробки или ящики. На моих глазах он втиснул туда какую-то одежду, книги, складной табурет. Мольберт и упакованные холсты он заботливо уложил первыми, а все остальное, кажется, использовал как мягкую прокладку. Я собиралась молча прошагать к своему грузовику, но он обернулся, увидел меня и остановил.
— Мэри… уезжаешь?
Я подошла к нему: ничего не смогла с собой поделать.
— Как все.
— Только не я.
Меня удивила его ухмылка — заговорщицкая усмешка подростка, украдкой выбравшегося из дома. Он выглядел свежим и радостным, волосы стояли дыбом, но еще поблескивали, словно недавно из-под душа.