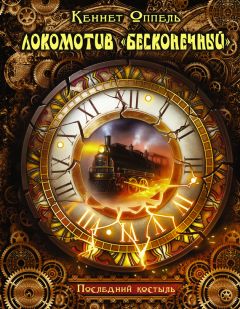Игорь Резун - Мечи свою молнию даже в смерть
– Но… – забормотала Людочка в ужасе, – у меня нет… этого самого… купальника.
– Можно в белье! – великодушно разрешил Термометр, но прибавил укоризненно. – А я совсем разденусь. Я, знаешь, дорогая, без комплексов… вполне европейский человек!
Людочка с ужасом раздевалась, стараясь не смотреть на своего Принца. Она стянула платье и, отвернувшись, расстегнула лифчик. Ей было еще страшнее, чем тогда, с Иркой. И она с ужасом вспомнила про уродливый синяк от пробки из-под шампанского, ударившей ее тогда, на банкете. Но молодая женщина хотела наконец преодолеть свою стыдливость, которая сковывала ее всю жизнь, и сейчас эти вериги стали особенно заметны. Она вспомнила, как стыдилась своих больших ступней, как считала их уродливыми, и как теперь с удовольствием рассматривает их, накрашивая ногти. Они теперь кажутся ей необыкновенно чувственными. Поэтому она рывком сдернула с худых бедер трусики, глядя на ровную полоску горизонта, и обернулась к Термометру, пламенея лицом. Севшим от напряжения голосом она спросила:
– Дима, а я краси… я тебе нравлюсь?
Казалось, даже ее плоская грудь подобралась, налилась, заблистали розовым соски, и треугольник волос под загорелым пупком закурчавился, зашевелился, двигаясь навстречу солнцу и ветру, изнывая от белизны окружающей кожи. Волосы Людочки развевались.
Термометр шлепнулся на песок животом, отбросив полосатые «семейники», и заржал по-жеребячьи:
– Ой… Горя-аченькая! Хороша ты, хороша… а я полежу…
Людочка постояла. Солнце падало сверху водопадом. И внезапно она ощутила оглушающий удар по сознанию: она стояла ГОЛОЙ перед мужчиной, он видел ее бедра и лоно, он прикоснулся глазами к ее грудям… и не потащил в кусты. Последний пузырек страха и грусти лопнул в ней звонко. Молодая женщина, красивая и тонкая, Людмила подняла голову, заглянула в слепящее око солнца и рассмеялась безмятежно.
Она была свободна. Она была красива. Она была Принцессой!
Она понимала это, даже не рассматривая себя придирчиво. А если б и рассмотрела, то увидела бы, как на большом пальце руки внезапно засинела никогда раньше не заметная, невесть откуда взявшаяся татуировка – древний геральдический грифон!
Взвизгнув от радости, она опрометью бросилась к воде.
А Термометр лежал на горячем песке, наблюдая за брызгавшейся в прибое женщиной. Они были в «мертвой зоне» пляжа – между центральным академовским и частным, новым. Сюда из-за труднодоступности почти никто не ходил.
Термометр вспоминал разговор, состоявшийся сегодня утром, как раз перед тем, как он взял двести граммов водки, а еще сотню ему добавил старый знакомый, когда-то работавший вместе с ним в сторожах. Приятель поинтересовался, кого Термометр ждет; и тот честно признался. Знакомый подумал, потом присвистнул и осведомился деловито:
– Трахнешь?
– А то! – загордился Дмитрий Илларионович.
– Щас, – остудил его приятель. – Забудь. Она уже и не помнит, как это бывает. Мертвое дело.
Термометр загорелся.
– А вот спорим?! Сто граммов ставишь, а если трахну, то я тебе… двести поставлю! Потом.
Приятель махнул рукой.
– Да ну, ты сдурел! Она же, как лань, от мужиков шарахается. Шлендает босая, пятки черные… Ерунда!
– А вот спорим! – настаивал Термометр.
Приятель подумал и согласился. Он сходил в кафе, вернулся со стаканчиками и подмигнул:
– Заметано! Кто разобьет?
В «разбивальщики» взяли бомжа, дав ему пять рублей.
– Только давай так, – поставил условие приятель, закусывая выпивку шоколадкой, – если ты ее трахнешь, нарисуй на ней… Блин, где ж нарисовать? Во! Придумал! Нарисуй на ее пятках цифры!
– Какие?
– А вот, двадцать одно! Вот так. Фломастером. Она сама никогда не додумается.
– А как я ей это объясню?
– Захочешь – лапши навешаешь. Ты у нас языкастый, – резонно заметил приятель, тоже изрядно спившийся внук академика – микробиолога Лахмусова.
На том и расстались.
* * *Людочка прибежала, тоже улеглась на песок спиной вниз, вытянув руки и ноги. Она прикрыла глаза собственным лифчиком и засмеялась:
– А я ведь… я не поэтесса, Дим!
– Да ты что? Ну и ладно…
Она, смеясь, рассказала ему, как засветила Шимерзаеву тряпкой по лицу; как ее отстранили от основной работы – мытья полов; как они ходили с Иркой симоронить на набережную. Она расставалась со словами легко, он кивал добро и согласно, и от этого сердечко ее радостно билось. Потом она, вылив все признания, остановилась и проговорила тихо:
– Дима, спасибо тебе…
– За что?
– Я думала, что я уродина, хотя… да нет… ты первый…
– Как? – перепугался Термометр. – Ты что, девственница?
– Нет. Но… но любимый – ты первый.
И она слегка забылась. Почему-то ей виделись мокрые плиты какого-то храма у моря и ее умытые пеной голые ступни на сером базальте. И будто бы она, как Афродита, беззастенчиво голая, выходила из пены. Она очнулась от того, что что-то происходило с ней. Что-то очень интимное и до сих пор неизведанное. Она открыла глаза, сбросив с них лифчик, нагретый солнцем, и приподнялась на локтях:
– Дмитрий?
Он стоял перед ней на коленях и, положив руки на ее голые ступни, стряхивал с них последние крупники высохшего песка.
– Я готов целовать песок, по которому ты ходила, о, Афродита! – напыщенно проговорил он. – Но так как целовать песок не хочу – в рот лезет, я поцелую твои ноги.
С расширившимися от волнения глазами молодая женщина наблюдала, как он, похожий на огромного высушенного богомола, встав на колени, склонился над ее голыми ногами и начал покрывать обжигающими поцелуями ее босые ступни. Его горячие губы, его влажные уста осыпали пальцы ног, пятки и добрались до щиколотки. Непередаваемое волнение охватило ее, жалом прошло по телу и воткнулось под сердце. Людочка ощутила, что легко смотрит на солнце без очков – глаза и так уже наполнились слезами.
И вытянув руки, она внезапно, неожиданно для самой себя, вдруг севшим голосом позвала:
– Дима, иди сюда, мой хороший…
Занавес.
…А по морю плыла голубая дымка, вбирая в себя зелень воды, синь неба, перемешивая краски, как требовательный акварелист. И в этой дымке горел город. Пиратский бриг, разбив патрульный корабль, подкрался к беззащитной бухте под покровом тумана. Отправившиеся в ялике пираты перерезали охрану и канониров – медные рыла столетних «единорогов» угрюмо молчали в каменной пасти форта. Над крышами поднимался огонь местной церкви, полуголые женщины метались по улицам, прижимая к себе окровавленных детей, и падали замертво под ударами широких пиратских палашей. Нападавшим уже ничего не было нужно: у них было все – вино, деньги и тела.
Пиратский бриг стоял в бухте, глумливо трепетал на мачте «Веселый Роджер» – это была полная и окончательная победа. Золото Картахены тяжело ворочалось в трюмах…
* * *Примерно в то самое время, когда в сгущающихся сумерках Людочка привела Термометра в свою уютную комнатку, за километр от этой обители в створ между рядами самостроенных гаражей въехали кофейный «Москвич» и зеленый «ГАЗ-66». Из кузова грузовика стали выпрыгивать люди в ярко-оранжевых спецовках дорожных рабочих, а из «Москвича» вышли трое: седой человек в камуфляже без знаков отличия, какой-то трясущийся дедушка с голым розовым черепом, одетый в пестроватый дешевый костюмчик, галстук-бабочку и держащий в руках палочку. А потом вылез усатый очкастый охранник. Не совсем трезвый.
– Где? – требовательно спросил седой.
Охранник забормотал, тыча пальцем куда-то вперед:
– Так вот оно там… Она прибежала… я побежал… а там… эта…
– Конкретнее! ГДЕ? – подстегнул его камуфляжный.
В руках у него появился фонарик. Охранник, шатаясь, прошелся вдоль стены и наконец указал: вот.
На бетоне, за старой автопокрышкой, багровели какие-то не до конца высохшие пятна.
– Ясно, – вздохнул камуфляжный. – Силантьев, доставьте товарища… откуда взяли! Каменский, давай этот квадрат… с приброской на пятнадцать метров. Черти!
Мычащего охранника увели под руки, а камуфляжный и трясущийся отошли. Старичок чертил палочкой по песку.
– Да-а-а, Алексангригорич… – блеющее сказал он. – Вот они, змейки-то… Зна-а-а-акомые змейки! В семьдесят пя-а-а-атом такие в тундре-то… в тундре! Эрлик-ха-а-а-ан… знамо дело…
Полковник угрюмо молчал, ковыряя носком твердого коричневого штиблета ноздреватый бетон, а потом кивнул.
– Да помню я, Тимофей Исаич! Ты-то тогда начальником оперативного управления был. Не побрезговал сам в Лабытнангу полететь. Помнишь, как я твой вертолет в тундре сажал?
– Помню, к-а-а-ак же! – засмеялся старичок. – Все бараки поджег, лагпунктовские. Тебе потом выговор да-а-али… Известно дело, народное достояние спалил! Мала-а-а-адец, нечего сказать. Ох, и озоровали тогда там шаманы! Словно пировали в последний час.
Люди в спецовках между тем подтянули шланги к компрессору в кузове «шишиги», и в бетон ударили разъяренные носы отбойных молотков. Полетела горелая бетонная крошка. Полковник поморщился, выбрал промежуток между грохотом и спросил: