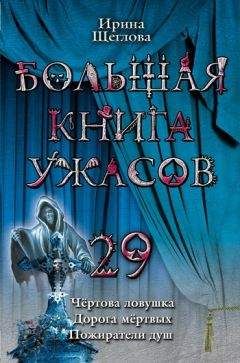Экземпляр (СИ) - Купор Юлия
— Жень… — наконец-то Костя решился, правда, перед этим он выкурил полсигареты.
— А? — Женька поправил съехавший набок капюшон.
— Каково это — умирать? Это больно или страшно? Или…
По злой иронии судьбы именно в этот момент по Карла Маркса проехала скорая, пронзительно заревели сирены.
— В первый раз было больнее, кстати, — ответил Женька.
— В первый раз? — Костя насторожился. — Я что, два раза тебя убивал? Я чего-то не знаю?
— Да блин! — рассердился Женька и махнул рукой, в которой тлела сигарета. — Боже, ну кто вбил тебе в башку, что ты, Костя Григорьев, — непризнанный пуп земли? Представляешь, не все в мире происходит по твоей прихоти и не все события во Вселенной свершаются только потому, что ты так решил. В первый раз меня никто не убивал, в первый раз я трагически погиб.
— Расскажи!
Женька достал откуда-то банку из-под «Нескафе» и расплющил об нее окурок, потом протянул Косте, чтобы тот сделал то же самое.
— Пошли внутрь, — буркнул Женька. — Здесь околеть можно.
— И то правда, — ответил Костя, баюкая под рукавами озябшие ладони.
Вернулись в кухню, где девчонки уже приготовили всем кофе. Уселись за стол.
— Тебе Векслер рассказывал что-нибудь о Рингтеатре? — спросил Женька, энергично дуя на кофе.
— Ну да. Он там вроде как служил. Да я и сам читал — театр в Вене, который сгорел в 1881 году. Рингтеатр.
— Ну вот мы там с ним и познакомились, — сказал Женька, глотая кофе.
Костя последовал его примеру, машинально отхлебнул кофе, все еще не понимая, куда клонит Женька. Какую-то чертовщину он собирался рассказать, определенно.
— Кто с кем?
— Я же тебе рассказывал, что поступал в Перми в театральное училище?
— Ну да, — ответил Костя. Он никак не мог угнаться за Женькиной мыслью. Мысль упорно убегала.
— Я очень хотел стать артистом. А в прошлой жизни… Ты чего так на меня уставился? В прошлой жизни я служил в Рингтеатре.
Костя помотал головой, словно желая избавиться от назойливой галлюцинации. Назойливая галлюцинация, то есть Женька, сидела и непонимающим взглядом таращилась на Костю. Какая-то нестыковка была во всем этом, какая-то жуткая нестыковка. Про Рингтеатр этот… полноте, а ведь это уже было… Флешбэк, обрывок воспоминания, камера, мотор… Уфф, ничего не понятно, не жизнь, а водевиль какой-то… А воспоминаний нет, есть только воспоминания о воспоминаниях, которые по сути сами являются воспоминанием… Мысль изреченная есть ложь… А почему тогда в школе говорят, что надо писать не «ложь», а «клади»… Бред какой-то. Наверно, так ощущают мир сумасшедшие люди, подумал Костя. Ох и невесело же им. Нет, наоборот, весело. Мироздание не перестает удивлять ни на секунду.
— Какой прошлой жизни? О чем ты, Жень?
— Ну ты спросил меня, не страшно ли мне было умирать, я тебе и ответил. Кстати, разреши мне представиться. Ойген Мотль. Актер.
— Не… — только и смог произнести Костя.
Ноги сами понесли его в сторону ванной, где он минут пять умывался ледяной водой, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Под конец руки одеревенели, а лицо, наоборот, стало пылать. Костя глянул на себя в зеркало, пытаясь найти в своем усталом взгляде признаки безумия. Да нет, он был нормален. Это Женька чокнулся. Ойген. Мотль. Полный ойгенмотль. Он никак не мог уложить в своем сознании слова, сказанные Женькой. Какой, к черту, Ойген Мотль, какой Рингтеатр? Что за бред он несет? Вот сейчас Костя вернется, умытый и свежий, с лицом, раскрасневшимся после ледяных пощечин, сделает вид, будто ничего не слышал, удачно сменит тему, чтобы они уже никогда не возвращались к разговору о Рингтеатре и, разумеется, о Векслере. Ну его. Костя покрепче закрутил кран. Сантехника в Женькиной ванной была дорогая, явно немецкая, и светилась чистотой. На зеркале после Костиного умывания остались капли, похожие на дождевые.
Костя, по-прежнему растерянный, но теперь еще и замерзший, вернулся на кухню, хлюпая носом, и снова сел напротив Женьки.
— Так вот почему ты так по-немецки хорошо шпаришь. И так странно.
— Потому что я родился в империи Габсбургов, Кость. Soll ich dir meine Geschichte erzählen?
— Oh nein! — Костю аж передернуло. — Хватит с меня историй!
Женька удивленно вскинул брови. Не Женька, конечно, а Ойген Мотль, или кто он, черт возьми.
— Костя! — кто-то сзади тронул за плечо. Костя обернулся — это была Марта. — Послушай его. Пожалуйста.
О боги, так они тут все чокнулись, подумал Костя. Они же все сумасшедшие, все-все-все! Поддаться всеобщему безумию? Выслушать герра Мотля? Ну в конце концов, что он может нового рассказать?
Внезапно Косте почудилось — он даже незаметно ущипнул себя за запястье, — что все предметы вокруг него похожи на театральную декорацию. На миг он словно бы увидел, что все эти предметы, такие как стол, кухонный гарнитур, внезапно отодвинулись и будто бы на их месте обнаружилась трухлявая деревянная стена, и не было ничего, кроме это щербатой стены, и девчонок не было, и Женьки (герра Мотля) не было, а была только сцена замшелого провинциального театрика, отнюдь не роскошного Рингтеатра, и сделалось Косте так страшно, что он готов был прямо сейчас, вот сию же секунду, встать со своего места, выбежать в коридор, не одеваясь и не разуваясь удрать в подъезд, вниз по лестнице, выскочить из подъездных дверей и бежать, бежать, бежать, бежать, не останавливаясь, пока силы не иссякнут, пока холод не добьет. Это было невыносимое ощущение, но, слава богам, оно быстро прошло. Вместо него пришла тоска, и это было понятней для Кости. Сердце заныло, как при надвигающейся смерти. Ой, ладно. Женька вот два раза погибал — и ничего же, вот он сидит, упитанный и очкастый. И с Костей тоже все будет в порядке. Определенно. Однако же тоска не отступала, сколько Костя ни пытался себя утешить. Так вот ты какой, мир идей и мир абстракций, мир, где ты падаешь вниз с высокой скалы, постоянно падаешь и не за что уцепиться, только ты и сосущая под ложечкой вечность.
— Ты готов услышать мою историю? — спросил Женька и даже очки снял, явив мирозданию свои огромные усталые и напуганные глаза.
— Нет.
— Тогда, — Женька неуклюже поднялся, — леди и джентльмены, проследуем в библиотеку. Там атмосферней.
Костя еще помедлил, дождался, пока Женька, то есть герр Мотль, не выйдет из кухни вместе с Мартой и Юленькой, и потом еще немного подождал, слушая, как из библиотеки раздаются приглушенные голоса. Тревога сменилась спокойствием, не сразу, но сменилась. Тогда Костя поднялся, поправил съехавший угол скатерти и погасил за собой свет.
10
— Семнадцати лет я устроился работником сцены в Рингтеатр. Было это летом 1881 года, всего лишь за несколько месяцев до трагедии.
Женьку было не узнать. Верхний свет зажигать не стали. Библиотеку освещали две настольные лампы, покрытые кокетливыми абажурами. Девчонки уселись в тени этих ламп на крохотном диванчике, их совсем не было видно, Женька же окунулся в лучи, точно конферансье на сцене. Он говорил спокойным и глубоким голосом, и на миг — вот буквально на самый миг — Косте показалось, будто они и вправду в XIX веке, и под окнами проезжают фаэтоны и ландо, и мироздание стало таким умиротворенным, точно ребенок, который плакал-плакал, а потом заснул.
— Примерно в это же время в театре появился и Роберт Векслер, — продолжил свою речь герр Мотль. — Не лишенный таланта обаятельный актер с великолепными вокальными данными (он был драматическим тенором) мгновенно состоялся в амплуа героя-любовника и быстро завоевал популярность среди зрителей и, конечно же, зрительниц. Не обладая от природы прозорливостью и не имея сколь бы то ни было значительного жизненного опыта в свои семнадцать лет, будучи простодушным и в какой-то степени наивным юношей, я тем не менее в скором времени почувствовал беду, исходившую от этого демонического человека. Несмотря на то что я испытывал искреннюю, хотя и необъяснимую симпатию к этому сумасбродному чудаку, несмотря на то что меня бесконечно восхищала его манера изъясняться и его акцент (говорил он так, словно немецкий язык вовсе не был для него родным, и мне временами казалось, будто никакой язык не был для него родным), несмотря на то что мне чертовски нравилось, как он носит шарф, перекинув через плечо, и как он курит сигару, выпуская затейливые колечки дыма, я отчетливо понимал, что Роберт Векслер, кем бы он ни был, несет с собой трагедию и смерть. Стоило только ему появиться в помещении, как сразу же начинала происходить непонятная чертовщина: сами собой гасли газовые рожки, со столов падали предметы, у дам внезапно начинались мигрени, а иные барышни с тонкой душевной организацией безо всякой видимой причины хлопались в обморок, и хорошо, что дамы того времени всегда носили с собой нюхательную соль.