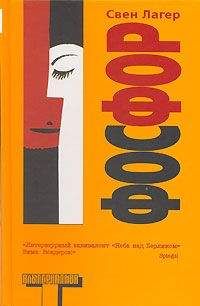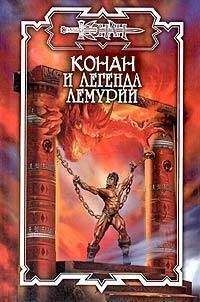Дин Кунц - Ключи к полуночи
— Вы действительно миллионер? — спросила Джоанна.
— По крайней мере на бумаге.
— Я думала, что миллионеры путешествуют в сопровождении свиты.
— Только опасающиеся путешествуют со свитой.
— Полагаю, у вас есть свой "роллс-ройс"?
— Даже два.
— Мне никогда не приходилось обедать с миллионером.
— А что, от этого у пищи вкус другой? — спросил Алекс, посмеиваясь.
— Мне неловко.
— Ради всего святого, почему?
— Все те деньги, — сказала она, — они... ну, я не знаю почему точно, но мне неловко.
— Джоанна, никто не относится к доллару с большим уважением, чем я. Но я также понимаю, что деньги ни подлые, ни благородные, это нейтральная субстанция и неизбежная часть любой цивилизации так же, как день и ночь есть естественное следствие вращения земли. Из нас двоих преклоняться надо перед вами. Вы одаренная и явно трудолюбивая певица. Кроме того, вы истинно чудесный ресторатор, а это не только бизнес, но и не в меньшей мере искусство. Я должен чувствовать себя неловко в присутствии столь многих талантов.
Некоторое время Джоанна молча смотрела на него. Алекс мог бы сказать, что она его осуждает. Затем она отложила свои палочки для еды и промокнула рот салфеткой.
— Господи, вы понимаете, чего вы здесь наговорили?
— Разумеется, понимаю, — сказал Алекс. — Разве я осмелился бы быть неискренним? Разве вы забыли вашу речь о том, чтобы быть до конца честными друг с другом?
Джоанна качнула головой, как будто была удивлена, и ее золотистые волосы нежно заискрились:
— Теперь я более чем когда-либо благоговею перед вами. Большинство мужчин, кто начинал с ничего и сколотил большое состояние, к сорока годам становятся невыносимыми себялюбцами.
Алекс не согласился.
— Это не совсем так. Что касается меня, здесь нет ничего особенного. Я знаю многих богатых людей, и большинство из них также скромны, как какой-нибудь конторский клерк или парень, работающий за триста долларов в неделю на детройтском конвейере. Мы смеемся и плачем, и кровь у нас того же цвета, что и у всех. А раз уж мы затронули скромность, сейчас вы ее увидите. Мы слишком много говорили обо мне. А какова история Джоанны Ранд? Как вы оказались в Японии? В "Прогулке в лунном свете"? Я хочу услышать все о вас.
— Это не так уж интересно, чтобы стоило послушать, — сказала Джоанна.
— Ерунда, не верю.
— Нет, я серьезно. Моя жизнь кажется очень скучной по сравнению с вашей.
Он поморщился.
— Скромность — очаровательная черта характера. Но чрезмерная скромность не украшает. Я рассказал вам о себе. Теперь ваша очередь. Честно так честно. Я обещаю вам быть очень внимательным слушателем.
— Давайте сначала попробуем десерт, — произнесла Джоанна.
Алекс не мог решить, скрывала ли она свое прошлое или действительно робела перед ним.
— Ладно, — сказал он, еще не подготовленный, чтобы предъявить обвинение. — Что вы будете?
— Что-нибудь легкое.
Их официантка, приятная круглолицая женщина предложила им фрукты, и они согласились, оставляя выбор за ней. Им подали апельсины с молотым миндалем и мякотью кокоса.
Съев две апельсиновые дольки, Алекс спросил:
— Где в Штатах вы родились?
— Я родилась в Нью-Йорке, — ответила Джоанна.
— Одно из моих любимых мест, несмотря на грязь и преступность. Вам нравится Нью-Йорк?
— Я почти не помню его. Мой отец работал в одном из этих гидроголовых американских конгломератов. Когда мне было десять лет, он получил пост управляющего в одном из британских подразделений той компании. Я выросла в Лондоне и там поступила в университет.
— Что вы изучали?
— Сначала музыку, затем восточные языки. Я начала интересоваться Востоком: в то время я была страстно влюблена в одного японского студента, учившегося у нас по обмену. Мы с ним год снимали квартиру. Наша страсть расцвела и увяла, но мой интерес к Востоку остался.
— А когда вы приехали в Японию? — как бы случайно спросил Алекс, пытаясь не выглядеть как частный детектив, собирающий информацию по интересующему его делу.
— Почти десять лет назад, — ответила Джоанна.
"Совпадает с исчезновением Лизы Шелгрин", — подумал он, но ничего не сказал.
Джоанна с явным удовольствием взяла палочками для еды еще дольку апельсина. Маленький кусочек мякоти кокосового ореха прилип к уголку ее рта. Она слизнула его медленным движением языка. Наблюдая за ней, Алекс подумал, что она напоминает рыжевато-коричневую кошку, с вылизанной шерстью, полную энергии движения. Если бы она это услышала, то повернула бы голову с кошачьей грацией и посмотрела бы на него, как это делают кошки: сонливый взгляд сочетается с крайней настороженностью, любопытство смешивается с холодным безразличием, а гордая независимость еще больше пробуждает привязанность.
Джоанна продолжала:
— Мои родители погибли в автокатастрофе во время короткого отпуска в Брайтоне. У меня не было родственников в Штатах, не было и особенного желания возвращаться туда. Британия же казалась ужасно тоскливой, полной тяжелых, мрачных воспоминаний. Когда выплатили страховку отца и наследственные дела были улажены, я взяла деньги и приехала в Японию.
— Искать того студента, который учился у вас по обмену?
— Нет, дело было не в нем. Кроме того, он все еще учился в Лондоне. Я приехала, так как думала, что мне здесь будет хорошо. Так и случилось. Я провела несколько месяцев в качестве туриста, затем приняла гражданство, хотя могла этого и не делать, и случайно нашла работу певицы японской и американской поп-музыки в одном из ночных ресторанов Иокогамы. У меня всегда был хороший голос, но мне никогда не приходилось выступать на сцене. Вначале я была ужасна: этакий неуклюжий любитель, но я училась.
— Спорю, что каждый второй американец проходит через то, что вы назвали...
— "Иокогама-мама", — сказала она. — Боже, было время! — Джоанна кисло улыбнулась. — Тогда все думали, что они чертовски умны. "Йокогама-мама" никогда не была одной из моих любимых песен — особенно после того как я услышала тот бородатый анекдот в двух-или трехтысячный раз.
— А как вы попали в Киото?
— После Иокогамы я немного работала в Токио, то же самое, но лучше. В большом ресторане, который назывался "Онгаку, Онгаку".
— "Музыка, музыка", — перевел Алекс. — Я знаю это место: был там всего пять дней назад.
— В этом ресторане был хороший оркестр. Музыканты много работали — они играли все, что звучало, как поп-музыка; также и я пела все подряд. Хотели поймать удачу. Лучше риск, чем прозябание, — это мой девиз. Некоторые из тех музыкантов были немного знакомы с джазом, и я учила их всему, что знала сама. Сначала администрация отнеслась к этому новшеству скептически, но посетителям нравилось. Японская аудитория обычно более сдержана, чем западная, но в "Онгаку" люди рвали на себе волосы от восторга, когда слушали нас.
Алекс отметил, что тот первый триумф был для Джоанны счастливым воспоминанием: слабо улыбаясь, она отрешенно смотрела в сад, забыв, где она находится, глаза ее блестели, как будто сквозь время она ясно видела лица и события своего прошлого.
— Во время наших выступлений, — продолжала Джоанна, — обезумевшие слушатели дико и возбужденно скакали: свинг был для них новой музыкой... а может, и не новой, может, в нем было что-то такое, что они заново открывали для себя. Как бы то ни было, со мной заключили самый продолжительный контракт за всю историю ресторана. Более чем два года я была их главной приманкой. Если бы я захотела остаться, то все еще работала бы там, но в конце концов я поняла, что мне было бы лучше уйти, если я хочу работать на себя в своем собственном ресторане.
— "Онгаку, Онгаку" совсем не такой, как вы его описали, — сказал Алекс. — Ничего подобного даже близко. С вашим уходом он потерял очень многое. Сегодня там уже не скачут и даже не подергиваются. Не что иное, как шумно-пластмассовая ловушка для туристских кошельков. Американцы, кто не особо разбирается в свинге, идут туда, чтобы потешить свое национальное расистское самолюбие и посмотреть, что это за новшество: группа желтолицых играет музыку белых людей. А японцы, я думаю, идут потому, что они помнят, какой "Онгаку" бывал раньше. Джаз-банд там теперь посредственный, а вокалисту надо вообще запретить петь где бы то ни было, даже в собственной ванне.
Джоанна засмеялась и тряхнула головой, чтобы убрать с лица длинную прядь выбившихся волос. "Этот жест, — подумал Алекс, — превращал ее в школьницу, свежую, нежную, невинную, и ей нельзя было бы дать ни на один день больше, чем семнадцать. Однако, увидев как бы новую грань ее красоты, он понял, что ему было не до любования ею: в это краткое мгновение она стала похожа даже больше, чем всегда, на Лизу Шелгрин. Она была точной копией этой пропавшей женщины.