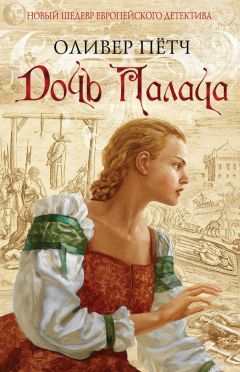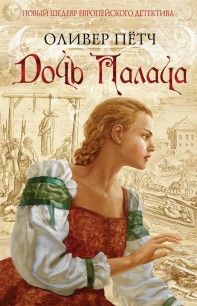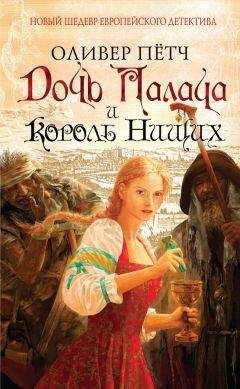Майкл Смит - Соломенные люди
Возле двери стоял оцинкованный мусорный бак, крышку которого приподнимал плотно набитый мешок. Газет на пороге не было — видимо, об этом позаботился Дэвидс. Поступил он совершенно правильно, но из-за этого складывалось впечатление, что все уже начало покрываться пылью. Я достал из кармана чужие ключи и отпер дверь.
Внутри было настолько тихо, что дом, казалось, пульсировал. Подняв с пола несколько конвертов с почтой, в основном рекламы, я положил их на столик, затем немного походил из комнаты в комнату, разглядывая обстановку. Комнаты напоминали витрины какой-то странной распродажи, где все вещи происходят из разных мест и оценены намного ниже их реальной стоимости. Даже те, что были на своем месте, — книги в кабинете отца, мамина коллекция английской керамики 30-х годов, аккуратно расставленная на старинном деревянном комоде в гостиной, — казались герметично защищенными от моего прикосновения и от времени. Я понятия не имел, что со всем этим делать. Сложить в ящики и убрать куда-нибудь подальше? Продать и оставить деньги себе или потратить на что-нибудь достойное? Жить среди этих вещей, зная, что всегда буду считать их не более чем подержанным хламом?
Единственное, что имело хоть какой-то смысл, — оставить все как есть, уйти из дома и больше не возвращаться. Это была не моя жизнь. И вообще теперь ничья. Если не считать единственного свадебного фотоснимка в холле, здесь не было даже фотографий — их никогда не было в нашей семье.
В конце концов я снова оказался в гостиной. Большие широкие окна выходили через сад на дорогу, придавая теплоты шедшему снаружи холодному свету. В гостиной стояли диван и кресло, украшенные изящным орнаментом, небольшой телевизор на подставке из дымчатого стекла, а также кресло моего отца, потрепанная боевая лошадка из темного дерева, покрытого зеленой тканью, единственный предмет мебели, который они привезли с собой. На кофейном столике лежала новая биография Фрэнка Ллойда Райта, рядом с чеком из «Денфорд-маркета». Восемь дней назад кто-то из родителей купил разнообразных закусок, морковный пирог (странный каприз), пять больших бутылок минеральной воды, обезжиренного молока и бутылочку витаминов. Большая часть всего этого, вероятно, находилась среди содержимого холодильника, которое выбросила Мэри. Возможно, минеральная вода и витамины оставались еще где-то здесь. Чуть позже можно было бы и попить.
Сев в отцовское кресло, я провел ладонями по потертым подлокотникам, затем положил руки на колени и посмотрел в сад.
А потом долго и безутешно рыдал.
* * *Уже намного позже я вспомнил один давний вечер. Мне тогда было семнадцать, и мы еще жили в Калифорнии. Была пятница, я собирался встретиться с ребятами в придорожном баре на окраине города, под названием «У ленивого Эда», — забегаловке, которая выглядела так, будто ее построили мормоны, чтобы выпивка казалась делом не только нечестивым, но к тому же мрачным, унылым и бесконечно безнадежным. Эд понимал, что особо разборчивым ему быть не приходится, а поскольку мы никогда не доставляли особых проблем и постоянно подкармливали двадцатипятицентовиками бильярдный стол и музыкальный автомат — «Блонди», Боуи и старый добрый Брюс Стрингбин в славные времена Молли Ринг-уолд и «Мондриана»[3], — наша несовершеннолетняя компания вполне его устраивала.
Матери не было дома, она уехала к своей подруге по каким-то делам, которыми обычно занимаются женщины, когда рядом нет мужчин, путающихся под ногами, вечно скучающих и не слушающих с надлежащей серьезностью истории о незнакомых людях, чьи проблемы кажутся им невероятно глупыми. В шесть часов мы с отцом сидели за большим столом в кухне, ужиная лазаньей, которую мать оставила в холодильнике, и избегая салата. Мои мысли были заняты совсем другим — я понятия не имел, чем именно. О том, что происходило в голове у меня семнадцатилетнего, я сейчас мог судить не в большей степени, чем о происходящем в голове у туземца с Борнео.
До меня не сразу дошло, что отец закончил есть и смотрит на меня. Я встретился с ним взглядом.
— Что? — довольно вежливо спросил я.
Он отодвинул тарелку.
— Идешь куда-нибудь сегодня?
Я медленно кивнул, смутившись, что было вполне естественно для подростка, и снова начал ковыряться вилкой в еде.
Мне сразу следовало тогда понять, о чем он спрашивает. Но я этого не сообразил, как и того, почему на его тарелке осталась небольшая горка салата. Мне не нравилась эта зеленая дрянь, и я вообще к ней не притронулся. Ему она не нравилась тоже, но он все же немного съел — даже учитывая, что рядом не было матери. Сейчас я понимаю, что нужно было как-то уменьшить количество салата в миске, иначе, вернувшись, мать сразу начала бы упрекать нас в том, что мы неправильно питаемся. Просто выкинуть часть его в мусорное ведро казалось нечестным, но если эта самая часть провела некоторое время на его тарелке — по сути, побывала его едой, — то все в порядке. Однако тогда это выглядело невероятно глупым.
Закончив есть, я обнаружил, что отец все еще сидит за столом. Это было на него не похоже. Обычно после еды он сразу же начинал заниматься делом — складывать тарелки в посудомоечную машину, выносить мусор, включать кофеварку и так далее, и тому подобное.
— И чем ты собираешься сейчас заняться? Посмотреть телик? — с некоторым усилием спросил я, чувствуя себя очень по-взрослому.
Он встал, отодвинул свою тарелку в сторону и, помолчав, сказал:
— Вот думаю…
Эти слова не вызвали у меня особого интереса.
— О чем же?
— Может, сыграешь со стариком пару партий в бильярд?
Я уставился ему в спину. Вопреки обычной для отца уверенности в себе вопрос прозвучал как жалкая попытка заискивать передо мной. Мне трудно было поверить, что он рассчитывал, будто я приму его слова всерьез. Отец вовсе не был стар. Он бегал трусцой, обыгрывал в теннис и гольф тех, кто был намного его моложе. Более того, я совершенно не мог представить его играющим в бильярд. Это просто было не в его стиле. Если нарисовать диаграмму Венна[4] с отдельными кругами для «Людей, играющих в бильярд», «Людей, которые могли бы играть в бильярд» и «Людей, которые вряд ли стали бы играть в бильярд, но, возможно, все же смогли бы», отец вообще оказался бы на другом листе бумаги.
Этим вечером он был одет, как это часто бывало, в тщательно отглаженные песочного цвета хлопчатобумажные брюки и белую полотняную рубашку, купленные отнюдь не в дешевом магазине. Высокий и загорелый, с тронутыми сединой темными волосами, он производил впечатление человека, за которого проголосовал бы любой, будь в том такая необходимость. Постоянно казалось, будто он стоит у борта большой яхты где-нибудь у берегов Палм-Бич или Юпитер-Айленд и ведет возвышенную беседу о произведениях искусства — тех, которые пытается вам продать.
Я же, с другой стороны, был худ и светловолос, носил обычные черные джинсы «Левис» и черную футболку. И то и другое выглядело так, будто их использовали для чистки автомобильного двигателя, впрочем, и пахло от них, вероятно, так же. От отца же исходил обычный для него запах, на который я тогда не обращал внимания, но сейчас могу представить так отчетливо, как если бы отец стоял позади меня, — свежий, чистый, правильный аромат, словно от аккуратно сложенной поленницы.
— Хочешь пойти сыграть в бильярд? — спросил я, пытаясь удостовериться, что не сошел с ума.
Он пожал плечами.
— Матери нет дома. По ящику ничего интересного.
— А на кассетах?
Это было непостижимо. Отношения отца с видеомагнитофоном напоминали те, что бывают у некоторых с любимым старым псом, и полки в его кабинете были заставлены кассетами с аккуратно наклеенными этикетками. Сейчас, конечно, я поступал бы так же, будь у меня свое жилье. Если бы нашлось время, я бы даже пометил их штрих-кодами. Но тогда подобная его черта больше всего напоминала мне фашистские полицейские государства.
Отец не ответил. Я машинально доел остатки со своей тарелки — я всегда оставлял посуду чистой, поскольку был в том возрасте, когда продемонстрировать свою любовь к матери было сложно, и единственное, что я мог, — не дать ее драгоценной посудомоечной машине засориться. Мне не хотелось, чтобы отец поехал со мной в бар, только и всего. У меня уже сложились определенные привычки — я наслаждался поездкой, это было мое время. Да и ребятам могло бы это показаться странным — черт побери, это и на самом деле было странно. Мой друг Дэйв, вероятно, глазам бы своим не поверил при его появлении и уж точно встревожился бы не на шутку, увидев меня в компании представителя «деспотичного старшего поколения».
Я посмотрел на отца, думая, как бы ему все объяснить. Тарелки были убраны в шкаф, остатки салата — в холодильник. Отец тщательно вытер стол. Если бы некая команда экспертов попыталась обнаружить хоть какие-то свидетельства того, что здесь недавно принимали пищу, их постигло бы разочарование. Я почувствовал, что начинаю злиться. Когда же отец сложил скатерть и повесил ее на ручку духовки, я вдруг ощутил первый намек на то, что мне предстояло почувствовать по-настоящему почти двадцать лет спустя, сидя со слезами на глазах в его кресле в пустом доме в Дайерсбурге, — осознание того, что его присутствие рядом вовсе не нечто неизбежное или данное свыше и однажды в тарелке окажется слишком много салата, а скатерть останется несложенной.