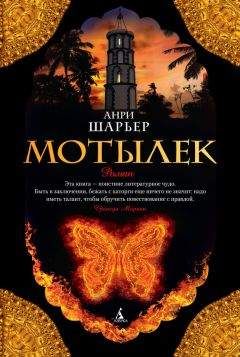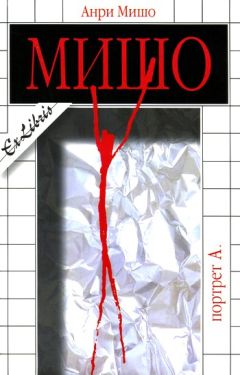Анри Шарьер - Ва-банк
Рита и тетушка Жю приехали в одиннадцать утра, а в три часа ночи тетушка Жю наконец уснула у меня на плече тихо и мирно, с лицом невинного младенца, когда я пришел в ее комнату пожелать ей спокойной ночи. Сказались усталость после дороги, возраст, эмоциональность встречи и шестнадцать часов беспрерывных воспоминаний.
Я упал на свою кровать и тут же уснул, разбитый, разомлевший. Великое счастье потрясает так же сильно, как страшное горе.
Обе мои женщины проснулись первыми. Это они вывели меня из глубокого сна и сказали, что уже одиннадцать утра, что солнце ярко светит, небо голубое, песок горячий и что меня ждет кофе с бутербродами. Надо побыстрее позавтракать и мчаться на границу встречать сестру со всем ее племенем. К двум часам они должны приехать.
– Даже раньше, – сказала тетушка Жю, – потому что твой зять поедет очень быстро, чтобы по дороге его не заклевало семейство. Им так не терпится поскорее тебя обнять.
* * *Я припарковал свой «линкольн» рядом с постом испанской таможни.
А вот и они!
Идут, нет, бегут, оставив моего зятя в «ситроене» дожидаться в очереди на французской таможне.
Первой с простертыми руками навстречу мне бросилась сестра Элен. Вот она пересекла нейтральную полосу между двумя постами, между Францией и Испанией. Я спешил к ней навстречу и чувствовал, как от волнения скручивает живот. В четырех метрах друг от друга мы остановились и посмотрели друг другу прямо в глаза. «Это она, моя Нэн, из моего детства; это он, Рири, мой братик», – говорят наши глаза, полные слез. И мы бросились друг другу в объятия. Странно! Для меня сестра была все той же пятнадцатилетней девушкой. Я не замечал ее постаревшего лица, ибо огонек в ее глазах остался прежним, и ее милые черты для меня нисколько не изменились.
Мы забыли обо всем на свете, не в силах выпустить друг друга из объятий. Рита уже перецеловала всех детей, и я услышал:
– Какая ты красивая, тетя!
Я обернулся, отстраняясь от сестры, и толкнул Риту в ее объятия, приговаривая при этом:
– Люби ее крепко, это она привела меня к вам.
Три мои племянницы оказались просто очаровательны, зять в полном порядке; он был искренне рад познакомиться со мной. Не хватало только его старшего сына Жака, которого призвали в армию. Он воевал в Алжире.
Мы направились в Росас. «Линкольн» мчался впереди, и рядом со мной сидела моя сестричка.
Никогда не забуду свой первый семейный обед за круглым столом. Иногда колени дрожали так сильно, что приходилось держать их под скатертью обеими руками.
Тысяча девятьсот двадцать девятый – тысяча девятьсот пятьдесят шестой… Много воды утекло за это время как для них, так и для меня. Сколько пришлось пройти дорог, сколько борьбы выдержать, сколько преодолеть препятствий, чтобы добраться сюда! За обедом я не говорил о каторге. Я просто спрашивал зятя, много ли бед и хлопот доставил им мой приговор. Он вежливо пытался меня убедить в обратном, но я-то знал, как я заставил их страдать. Чего уж хорошего, когда братец и шурин – каторжник!
– Мы никогда в тебе не сомневались. И уверяю тебя, если бы ты и в самом деле оказался виновен, мы просто сожалели бы об этом, но никогда и ни за что от тебя бы не отреклись.
Нет, я ничего не рассказывал о каторге, ничего не рассказывал о моем судебном процессе. Для них, в чем я искренне убежден, как и для меня, моя жизнь началась в тот день, когда я благодаря Рите похоронил прежнего себя, авантюриста, чтобы воскресить Анри Шарьера, мальчика Рири, сына учителя и учительницы из Ардеша.
Мое семейство разрослось, я вновь обрел родных. Племянницы были в диком восторге: дядя на живописной американской машине прямо с неба свалился, а какие истории рассказывает про индейцев и про многое другое из жизни в Южной Америке! Настоящий американский дядюшка. Как тут не восхищаться!
Август на песчаном пляже в Росасе пролетел очень быстро.
В сестре я обнаружил все манеры и жесты матери, особенно это заметно, когда она окликает своих птенцов. Веселый крик детства, смех без причины, всплески юношеской радости на пляже в Палава, куда мы ездили когда-то с родителями.
Месяц. Тридцать дней. Как это долго в одиночной камере наедине с собой и как это ужасно быстротечно среди своих вновь обретенных близких! Я буквально опьянел от счастья. Я обрел не только сестру и зятя, но также новых любимых родственников, моих племянниц, незнакомых мне еще вчера, а сегодня ставших для меня почти дочерьми.
Мы с Ритой пришли на пляж. Ее лицо сияло: она была в восторге оттого, что видела меня счастливым. Для нее это триумф, она сделала лучший подарок мне и моим близким: наконец-то мы воссоединились, вне досягаемости от французской полиции. Я лежал на песке в полудреме. Было уже поздно, почти полночь. Рита лежала рядом на песке, положив голову мне на бедро, и я гладил ее волосы.
– Завтра они все улетают. Как быстро пролетело время! Да, но как все было чудесно! Нельзя требовать от судьбы слишком многого, я это понимаю, дорогая, но все-таки! Мне очень грустно с ними расставаться. Бог знает, когда мы вновь свидимся. Такие поездки стоят слишком дорого!
– Положись на будущее. Я уверена, что наступит день и мы снова встретимся.
Мы проводили их до границы. Они взяли с собой и тетушку Жю. За сто метров от французской земли мы расстались. Никто не плакал, потому что я дал им слово: через два года мы проведем отпуск все вместе, и не один месяц, а целых два.
– Это правда, дядя?
– Правда, мои роднуленьки, сущая правда.
«Ситроен» медленно тронулся с места. Я стоял на дороге. Рита опиралась на мою руку. Их лица были обращены в нашу сторону, мы долго махали друг другу на прощание, пока они не приблизились к посту таможни и не скрылись за другим автомобилем, подъехавшим сзади.
До свидания! Знайте, что мы снова увидимся.
Через неделю в аэропорту Барселоны я уже встречал другую сестру. Она прилетела одна, не смогла привезти с собой семью. Я признал ее сразу, еще когда она спускалась по трапу в числе сорока пассажиров. И она, пройдя таможенный досмотр, уверенно и без колебаний направилась в мою сторону.
Сестра смогла пробыть с нами только три дня и три ночи. Так мало! Но зато мы времени зря не теряли. Предавались воспоминаниям все трое суток. Между ней и Ритой сразу же установились теплые отношения, возникло чувство взаимной привязанности. Она нам все о себе рассказала, и я ей открылся насколько мог.
Ты проиграл первый тур, прокурор, и вы тоже, французские судьи! Как вы тешились, самодовольные граждане, услышав, что мне впаяли «пожизненное» на основании вашего взвешенного, мудрого, честного и очень справедливого приговора! Никто из вас даже не мог предположить, что человек, отправленный вами на верную гибель, правда спустя много лет, но все же будет стоять в ста метрах от французской границы и встречать своих близких. Он не станет прятаться за кустом, озираясь по сторонам в страхе, что за ним гонятся. Он придет сюда не за тем, чтобы просить семью о помощи, чтобы вымаливать крохи любви и сострадания. Нет, он придет не побежденным, а победителем! Победителем вашего бесчеловечного и несправедливого приговора, победителем над самим собой, ибо он примет решение жить, как все нормальные люди. Победителем в жизни, победителем в удаче, чтобы видели все, что он приехал на красивой машине, шикарной до неприличия.
Через два дня приехала мать Риты из Танжера. Она взяла мою голову в свои нежные ладони и принялась без устали целовать меня да приговаривать: «Сын мой, как я счастлива, что ты любишь Риту и она любит тебя!» Из ореола седых волос тепло и нежно на меня смотрело открытое и красивое лицо. Эту нежность я всегда видел в чертах Риты.
Мы оставались в Испании очень долго, но счастливые часов не наблюдают. Возвращение на корабле заняло бы слишком много времени – шестнадцать дней. Решили лететь самолетом, поскольку дома ждали дела. Наш «линкольн» последует за нами морским путем.
И все же от маленького путешествия по Испании мы не отказались. Посетили Гранаду и полюбовались на чудо арабской цивилизации – висячие сады, где у основания башни «Мирадор» я прочитал выгравированные на камне слова поэта:
Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como
la pena de ser ciego en Granada,
что означает: «Дай милостыню, женщина, ему, ибо нет в жизни большей печали, чем быть слепым в Гранаде».
Нет, есть вещи похуже, чем быть слепым в Гранаде. Скажем, в двадцать четыре года, молодым, сильным, здоровым, уверенным в жизни, правда не очень дисциплинированным, не очень честным, но уж и не совсем опустившимся и тем более не убийцей, услышать, что тебя приговаривают к пожизненному заключению за чужое преступление. То есть исчезнуть навсегда без обжалования, без всякой надежды, чтобы гнить заживо, морально и физически, не имея одного шанса из сотни тысяч или даже миллиона однажды поднять голову и стать человеком.
Сколько людей, сломленных и раздавленных безжалостным правосудием и бесчеловечной карательно-исправительной системой, предпочли бы оказаться слепыми в Гранаде! И я один из них.