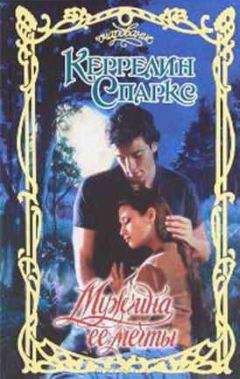Хизер Гуденкауф - Бремя молчания
Я смеюсь. Давно уже я не смеялся. На сердце чуть легче. Впервые за прошедшие два дня я начинаю верить, что наша жизнь когда-нибудь снова вернется в обычное русло. Голова еще болит, я с трудом встаю и иду искать врача. Надо ехать. Мне нужно увидеть дочь и жену.
Эпилог
Калли
Шесть лет спустя
Я часто вспоминаю тот день и до сих пор удивляюсь, как мы все тогда ухитрились выжить. Для каждого из нас тот день был мрачным и ужасным. Особенно для мамы, по-моему, хотя она не устает повторять:
— В каком-то смысле все закончилось хорошо. Ведь ты заговорила. Нашла свой голос.
Я никогда не считала, что «нашла» голос. Найти можно только то, что потеряла, а я голоса не теряла. Я представляла, будто он находится во флаконе, который заткнули пробкой и протолкнули ее глубоко в горлышко. Я часто воображаю себе свой голос в виде изысканных духов, налитых в дорогой флакон с красиво изогнутой ручкой. Флакон высокий и узкий, он из синего хрусталя, который переливается на солнце — совсем как стрекозы в нашем лесу. Мой голос просто дожидался нужного момента, чтобы вырваться из того флакона. Так что я его не теряла — просто нужно было, чтобы мне разрешили снова им пользоваться. Я не сразу поняла, что разрешить это могу только я и никто другой. Жаль, что мама считает по-другому. Она до сих пор винит во всем себя, и потому ей очень тяжело.
Я не понаслышке знаю, что такое таскать на себе бремя вины. В четыре года я думала, что моя маленькая сестренка умерла из-за меня. Вы скажете — глупо. Как четырехлетняя девочка может быть в ответе за смерть младенца? А теперь посмотрите на все моими глазами: четырехлетняя девочка видит, как мама и папа ссорятся на верхней площадке лестницы. Потом мать падает с лестницы, и девочка тянется к ней… Она плачет, плачет и никак не может успокоиться… И вот отец хватает свою дочь и шипит, чтобы она замолчала. Он не утешает и не целует ее, а шепчет ей в ухо:
— Заткнись, Калли. Если ты сейчас же не замолчишь, ребенок умрет. Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы ребенок умер? Если ты не заткнешься, твоя мама тоже умрет!
Он твердит одно и то же, шепчет страшные слова на ухо своей четырехлетней дочке. А потом ребенок действительно умер, умерла маленькая сестренка с рыжими, как маки, волосиками. Кожа у нее была мягкая и нежная, как цветочные лепестки. И тогда я проглотила все слова. Буквально. Разжевала их и затолкала себе в глотку. Они скользили вниз, царапая меня изнутри, как осколки стекла. Наконец, они искрошились в мелкую пыль; их никак нельзя было снова собрать, склеить и выговорить. Поэтому я отлично понимаю, что такое винить себя за то, в чем не виновата… Я понимаю маму.
В тот год, когда это случилось, Петра так и не вернулась в школу. Она очень долго пролежала в больнице. Ей сделали несколько операций, почти два месяца она провела в Айова-Сити, а потом еще месяц в больнице Уиллоу-Крик. Когда Петра окрепла настолько, что могла принимать гостей, мы с мамой раз в неделю ездили ее навещать. Как ни странно, мы с ней почти не разговаривали, хотя тогда я уже могла говорить. То есть мы с Петрой и без слов понимали друг друга. Даже когда сидели и просто молчали.
Потом, года через полтора после всего, Грегори уехали из нашего городка. Петра так и не стала прежней. Она хромала, а из-за травмы головы ей стало трудно учиться. Но над ней никто не смеялся — во всяком случае, при мне. Все — и дети, и взрослые — очень жалели Петру. Мне кажется, у нас ей ни за что не дали бы забыть, что с ней случилось. Рядом с ней всем становилось как-то не по себе. Наши ровесники просто терялись, а взрослые печально качали головой, увидев ее. Ну а Петре тогда хотелось только одного: быть как все.
По-моему, доконал Грегори судебный процесс. Тяжелее всех его перенес отец Петры. Ведь он сам пригласил Везунчика в свой дом, он часто поручал ему разные несложные дела, а потом устроил на работу в «Моурнинг Глори». В то страшное утро Петра увидела в окно Везунчика с его псом Сержантом. Она побежала за ними, чтобы поздороваться, а он нарочно быстро шел вперед, заманил ее в чащу и там набросился на нее. Позже выяснилось, что Везунчик всячески старался завоевать доверие Петры. Когда он приходил к Грегори или когда Петра приходила в «Моурнинг Глори», он всегда дарил ей маленькие подарки. Он даже сказал ей, что ходит выгуливать Сержанта в лес через задний двор их дома, и намекнул, как было бы хорошо, если бы Петра когда-нибудь к ним присоединилась. Своего пса Везунчик тоже убил. Видимо, когда Везунчик набросился на Петру, Сержант попытался ее защитить. Он укусил Везунчика, и тот задушил пса поводком.
Всем Грегори и нашей семье тоже пришлось давать показания. Выступать на суде — дело тягостное и малоприятное. Нас осыпали вопросами все: юристы, журналисты, друзья и соседи. Прокурор, по-моему, боялся, что я вдруг возьму и снова замолчу; поэтому, пока шел процесс, он каждый вечер приезжал к нам домой и вел со мной беседы — чтобы убедиться, что я не потеряла дар речи. Везунчика признали виновным по всем статьям — похищение, покушение на убийство, совращение малолетних. А меня спасло чудо: когда Везунчик хотел сделать со мной то же самое, что с Петрой, на него налетела старая черная ворона. Он поскользнулся и упал в расщелину. Пролетел метров пятнадцать, сломал ногу и ключицу. Нашли его только на следующий день, ближе к вечеру. Насколько мне известно, он еще в тюрьме и будет сидеть там всю жизнь. Причастность Везунчика к гибели Дженны Макинтайр доказать не удалось.
Мы с Петрой до сих пор переписываемся. Она живет в другом штате, ее отец больше не преподает. Он вышел в отставку и купил ферму. Там у них настоящее хозяйство. У них есть овцы, куры, свинья, несколько собак. Петра раза два приглашала меня в гости, но как-то не сложилось. Сама она возвращаться в Уиллоу-Крик не хочет, и я прекрасно понимаю почему.
В этом году моему брату исполнилось восемнадцать. После школы он подрабатывает, а деньги откладывает на учебу. Осенью он уедет в колледж, и мы с мамой заранее грустим. Бен очень высокий и сильный. Он похож на отца, только мягче, если вы понимаете, о чем я. Бен хочет поступить на службу в полицию. По-моему, из него выйдет хороший полицейский. Не знаю, что я буду без него делать. Многие мои подруги ждут не дождутся, когда старшие братья или сестры уедут, но у нас с Беном все по-другому. Когда я представляю, что он уедет, мне становится очень грустно…
Луис до сих пор помощник шерифа, но мама с Беном считают, что в следующем году, когда старый шериф, наконец, выйдет в отставку, шерифом выберут его. Луис часто ужинает у нас; он всегда приходит смотреть футбол, когда Бен играет за школу. Бен и Луис очень подружились; по-моему, Бен хочет стать полицейским, чтобы быть похожим на Луиса. Странно, что мама и Луис так и не поженились. Какое-то время назад он развелся, да и мама теперь свободна. Позавчера я спросила ее, почему бы им с Луисом не пожениться, ведь ясно, что они любят друг друга. Лицо у нее сделалось печальное, и она ответила, что все очень сложно, поэтому я оставила ее в покое. Маме до сих пор иногда снятся страшные сны — да-да. Иногда она кричит по ночам, а потом заглядывает в наши с Беном спальни — убедиться, что мы на месте.
Тэннеру, сыну Луиса, уже десять лет. Он приезжает в Уиллоу-Крик почти каждые выходные и иногда проводит здесь каникулы. Кристина в конце концов поселилась в Сидар-Рапидс, в часе езды от нас. Тэннер славный мальчик — тихий, задумчивый, с серьезными глазами. Луис обожает сына и очень грустит, когда тому приходится возвращаться в Сидар-Рапидс.
Мама беспокоится, что я мало говорю. Бывает, молчу по нескольку дней кряду. Я не рассеянная и отвечаю, когда ко мне обращаются, а сама не говорю. Тогда на мамином лице появляется очень озабоченное выражение; я понимаю, она боится, что я снова онемела. Чтобы ее успокоить, я что-нибудь говорю, и ей сразу становится легче. Мама устроилась санитаркой в больницу. Она работает в отделении ухода за тяжелобольными. Там в основном лежат старики. Мама меняет им постельное белье, кормит, моет, помогает медсестрам. По ее словам, работа у нее не самая приятная. Но дома она всегда рассказывает, кто что сделал и кто что сказал. Жалуется на особенно ворчливых, привередливых пациентов, но мне кажется, что как раз они — ее любимцы.
Фотографию отца я храню в коробке со своими сокровищами. Снимок давний, сделан еще до моего рождения и даже до рождения Бена — он выцвел и загибается по краям, но отец на нем вышел замечательно. Папа сидит в своем любимом кресле, а на лице у него широкая-широкая улыбка. Лицо у него молодое; он бледный, как молоко, только на носу выделяется россыпь веснушек. Он выглядит здоровым, и глаза у него ясные, зеленые. Это позже в них появилась желтизна. На нем вытертые джинсы и футболка с эмблемой «Росомах» — нашей футбольной команды. Но больше всего мне нравится, что он держит в руках не пивную бутылку, а банку с газировкой. Он в шутку поднимает ее, как будто произносит в честь фотографа тост.