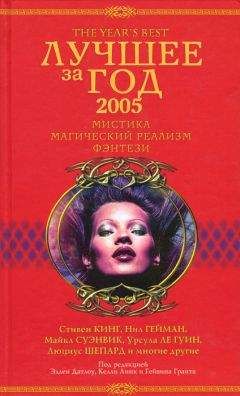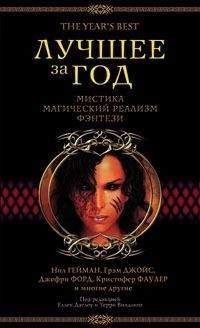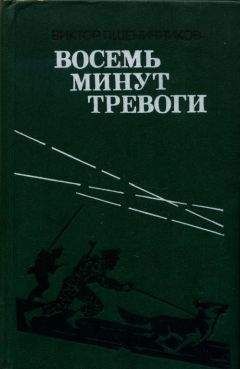Эллен Датлоу - Лучшее за год 2007: Мистика, фэнтези, магический реализм
Действительно невозможно описать какую-то другую вещь, которая уводила бы живопись за грани возможного, даже за границы красоты в некую реальность великого искусства. Конечно, она была красивой женщиной, разумеется, освещение, цвета, композиция, мазки кисти — все эти элементы можно разделить и отдельно рассмотреть, но это не дало бы объяснения тому нереальному чувству, которое возникает у того, кто смотрит на шедевр: потребность глубоко вдохнуть, как будто воздуха теперь требовалось вдвое больше.
Вместо того чтобы подняться наверх, я направился к парадной двери. Если та картина была такой же, как портрет Елизаветы, то я просто обязан был ее увидеть.
Было темно, дождь теперь только моросил, гладкое черное масло города напоминало нечто написанное Дали исчезающими чернилами. В кармане я нащупал по привычке взятые с собой ключи. Мне пришлось проехать несколько кругов по городу, сделать несколько ложных поворотов, пару раз переезжая кому-то дорогу, пока наконец я не выбрал дорогу, которая изгибалась аркой над городом и вела к белой часовне. Она даже в дождь светилась, как будто горела изнутри. Дорога петляла, но была вполне надежной. Когда я добрался до вершины и поднялся на мыс, завывал ветер, город внизу затерялся в тумане, и только несколько желтых огней тускло светились внизу. У меня было такое чувство, как будто я смотрел на небеса, упавшие на землю. Волны с грохотом разбивались о мыс, я чувствовал соль на лице, ощущал ее на губах. Вблизи часовня выглядела гораздо больше, чем снизу, шпиль превращался в устремленную в небеса иглу, на острие которой балансировал корабль. Поднимаясь по каменным ступеням, я опять подумал о том, что Эдвард не был уверен, стоит ли мне видеть ее, но взялся за железный молоток на двери и потянул. На мгновение показалось, что дверь заперта, но она просто была невероятно тяжелой. Наконец я открыл ее и вошел в темноту церкви. За спиной тяжело захлопнулись створки. В воздухе плыли аромат цветов, маслянистый запах дерева, откуда-то доносились звуки капающей воды, как будто где-то была течь. Я стоял при входе в церковь, и впереди была еще одна дверь, отделенная от темноты тонкой полоской света, просачивающейся снизу. Я осторожно приблизился, неуверенно двигаясь во мраке. Эта дверь тоже была невероятно тяжелой. Я толкнул ее, и она открылась.
Он кашлянул, прочищая горло, как будто внезапно простудился. Она приоткрыла глаза. Наверное, жар от дров в печи вызвал сильную краску на его щеках, он выглядел так, как будто страдал от боли или лихорадки! Она позволила своим глазам закрыться, и, казалось, прошла целая вечность, прежде чем он продолжил дрожащим голосом:
— Все, что я могу сказать: мне не нужно было на это смотреть. Как бы я хотел никогда не видеть все эти картины! Именно там я дал себе обещание, что никогда не полюблю простой, ничем не примечательной любовью, что приму только ту любовь, что заставит меня превзойти мои собственные границы и дарования, так, как любовь Эмиля к Елизавете дала ему возможность преодолеть свои. Только такая любовь может оставить след в мире, как это делает великое искусство, так, что всякий, узревший подобное, изменится, как это случилось со мной.
Так что, видишь ли, если ты увидишь меня в печали и спросишь, о чем же я думаю, или когда я очень тих и не могу объяснить причину, именно та история тому виной. Если бы я не увидел те картины, может, стал бы счастливым человеком. Но теперь я навеки одержим поиском.
Она подождала, но он ничего больше не сказал. После долгого времени она прошептала его имя. Но он не ответил, и когда она украдкой на него посмотрела, то увидела, что он спит. В конце концов, и она тоже заснула.
Всю ту ночь, когда они рассказывали свои истории, лепестки пламени прогревали ледяную крышу, что свисала по обе стороны дома и над окнами, так что холодным утром, когда они проснулись, огонь превратился в пепел и тлеющие угольки, а дом был облачен в подобие ледяной кожи. Они пытались ее смягчить, разжигая другой огонь и не понимая, что этим замуровывали себя еще больше. Остаток зимы они провели в своем ледяном доме, сжигая все дрова и большую часть мебели, поедая все консервы, даже с истекшим сроком годности. Они выжили, стали стройнее, уже куда меньше верили в судьбу, дождались весенней оттепели. Но так и не смогли забыть ни те зимние истории, ни ту весну или лето и особенно ту осень, когда ветра начали приносить холод в листья, ту странную смесь солнца и увядания, о которых они не говорили, но которые, они знали, всегда будут жить между ними.
Ричард Миллер
Но море выдаст свою ношу
Ричард Миллер был зачат в день победы над Японией в 1945 году, став, таким образом, «последним актом Второй мировой войны». Неизгладимое впечатление от этого факта стало знаковым для всей его последующей жизни. Вначале Миллер занимался актерской деятельностью, а в восьмидесятых обратился к научной фантастике и, подобно многим представителям этого жанра в Лос-Анджелесе, постепенно перешел к написанию сценариев для телевизионной анимации.
Несколько лет назад Ричард Миллер решил возвратиться к своим прозаическим истокам и после примерно одиннадцатилетнего молчания неожиданно вернулся на страницы «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», опубликовав рассказ «Но море выдаст свою ношу» («And the Sea Shall Give Up Its Dead»). В настоящее время он работает над циклом исторической беллетристики, остросюжетных любовных романов, действие которых происходит в тридцатые годы.
Я нашел Бруссара в самом дальнем углу: он сидел за столиком, съежившись, в том месте, где изогнутая каменная стена делает поворот, а морские птицы садятся на нее, ища случая поживиться за счет обедающих. Положив свой французский капитанский китель на стену в качестве пугала для чаек, Бруссар размышлял о чем-то над грудой сомнительного вида бумажек, прижатых от ветра тяжелым куском темного металла — шестерней из полированной стали величиной с кулак.
— Сувенир? — спросил я.
— Да, — проворчал он в ответ. — На память о «Де Бразза».
Колониальный сторожевик «Саворньян де Бразза» был последним кораблем Бруссара. После того как военно-морские силы Свободной Франции исчерпали решимость и прекратили существование, Бруссара повысили до капитана, списали на берег и предложили на выбор демобилизацию в Маврикии или отправку во Францию. Так как все корабли, шедшие в те дни во Францию, принадлежали либо Германии, либо Виши, Бруссар решил стать мавританцем. Согласно моим последним сведениям, он работал на англичан в качестве офицера связи, но, будучи французом, сам редко говорил о таких вещах. («Связи с чем именно?» — спрашивал я его. «А, ну, вы сами прекрасно понимаете», — отвечал он.) Под связью имелась в виду, конечно, разведывательная деятельность. Пока я открывал шахматную доску, Бруссар сгреб свои бумажки — «отчеты», как он их называл, и засунул в накладной карман кителя. «Не слишком кудряво для офицера разведки», — мелькнуло у меня в голове.
— А как насчет портфеля? — спросил я, рассматривая шестерню.
Она была плотная, крепкая, очевидно предназначенная для управления многими другими шестеренками; главный инженер шестеренок.
Бруссар фыркнул:
— Портфель стоит денег.
— Тогда бумажный пакет.
— Это не для меня.
— Ну, как знаете.
Я расставил фигуры: Бруссару черные, себе белые. Бруссар всегда играл черными, заявляя, что в нем есть негритянская кровь. А также еврейская, цыганская, славянская и еще любая другая, которую ненавидели немцы.
— В прошлый раз я выиграл, — напомнил я. — Значит, сегодня первый ход за французами.
— Так я ведь не чистокровный француз.
— Знаю, знаю.
Мы сделали пять или шесть бессвязных ходов, глядя на рыболовные суда, что выходили из гавани и возвращались в Порт-Луи, и на патрульные «Уорики», летавшие над морем. На душе было неуютно, тревожно. От Реюньона, где реял триколор со свастикой, нас отделяло всего сто тридцать миль. Спокойствие на водном пространстве между островами на самом деле было лишь перерывом, напряженным затишьем, похожим на беспокойное мерцание гаснущей свечи.
— Вы, похоже, где-то в своих мыслях? — спросил я.
— Как всегда, — ответил Бруссар.
— Дело хорошее…
Я взял коня. Бруссар пожал плечами, потом принюхался и повернул голову в сторону моря. Слабый запах дизельной гари. Я тоже его почувствовал.
— Одна из ваших?
Я проследил за его взглядом. Рядом с буем у входа в гавань подлодка освобождала балластные отсеки. С боевой рубки струилась вода, над палубой снижался вертолет. По морю к ней спешили лоцманский бот и моторный катер «Фэрмайл».
— Наверное, австралийская. Класса А. Не знал, что здесь ходят такие большие.
Маврикий был крайней точкой западного щупальца британской тихоокеанской империи, существовавшей лишь благодаря перемирию. Если бы Германия решила, что накопила уже достаточно мощи для очередного удара, то первым делом захватила бы этот остров, и американская база не остановила бы немцев.