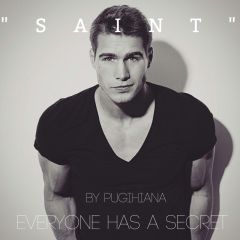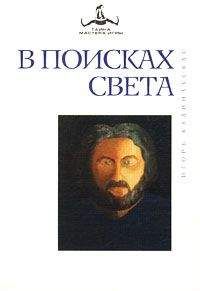У меня к вам несколько вопросов - Маккай Ребекка
«Не в моей одежде», — говорит Талия, затем снимает рюкзак, раздевается и надевает свободный купальник, великоватый для ее худой фигурки. Она ныряет со стартовой тумбы, далеко и грациозно, и вода забрызгивает джинсы Пуджи. Талия встает, убирая с глаз мокрые волосы.
У Пуджи нет купальника, но она раздевается до трусов и прыгает в воду солдатиком. Хлорка попадает ей в нос, щиплет лицо.
Талия говорит: «Просто наберись терпения, и в колледже ты сможешь завести настоящих друзей.
Кого-то, с кем у тебя типа больше общего».
Пуджу бросает в жар, руки колет, и она внезапно отвешивает Талии пощечину.
«Господи! — говорит Талия и касается щеки. — Вот почему люди тебя сторонятся! Ясно? Ясно теперь?»
Пудже нужно стереть то, что сейчас произошло, но она почему-то инстинктивно хватает Талию за бретельку купальника, резко дергает вперед, а затем толкает назад, и та с жутким звуком бьется головой о — обо что? край бассейна? — словно твердый фрукт. Пуджа ожидает, что Талия бросится на нее, закричит, но в тусклом свете Талия выглядит заторможенной, ей нехорошо.
Пуджа говорит: «О боже… я не…»
Талия издает полукрик-полувсхлип и царапает Пудже грудь. Пуджа погружается, глотает воду. Ей нужно выплыть, она шарит руками и хватается за волосы Талии. Они барахтаются, продвигаясь вдоль каната, и Пуджа, выбираясь наверх, толкает Талию вниз, прижимает ее шеей к канату. Ей просто нужно отдышаться, нужно время подумать.
Все переливается от паники, гудит, мерцает и ревет. Кто-нибудь может их увидеть. Им нужно выбраться из бассейна, но Талию рвет, она дрожит, погружается под воду.
Пуджа вылезает, натягивает одежду на мокрые трусы, думает.
Но Талия уже погрузилась. Ее рот и нос под водой. Если она вытащит Талию, ничего хорошего не будет. А если оставит там…
Она смотрит на настенные часы, не доверяя своему чувству времени. Проходит минута, две, пять.
Затем она убегает.
Она возвращается в общежитие с минутным опозданием, но другие девушки приходят позже, возвращаясь из леса, и пахнут пивом и грязью. Они заметят, что с ними нет Талии, и сперва не придадут этому значения, но ночью станут волноваться, начнут искать ее, найдут, а на ее теле еще могут оставаться отпечатки пальцев Пуджи. Могут ли остаться на теле отпечатки пальцев? Чем дольше Талия пробудет в воде, тем лучше. Пуджа засовывает в микроволновку попкорн, ставит таймер на пятнадцать минут. Она выгадала себе по меньшей мере полчаса неразберихи.
Когда Пуджа перестает спать, когда она наконец уходит из кампуса через две недели, это не только из-за того, что она сделала. Это потому, что другие шепчутся. Бет, Рэйчел и Донна Голдбек. Они слишком легко догадались. (Если бы только у нее был велосипед или машина, она могла бы добраться до Ганновера, а затем и до Нью-Йорка. Она могла бы исчезнуть. Но ни у кого нет велосипеда. Ни у кого нет машины.)
А кроме того, отец прислал ей письмо авиапочтой из Лондона, спрашивал, знала ли она покойную, купит ли газовый баллончик. Он писал: «Я думал, университет будет более опасным местом, но я вижу, тебе нужна защита даже в таком раю».
Почему-то именно это слово, рай — намек на то, что лучше, чем здесь, быть уже не может, — доканывает ее.
37
Когда я проснулась в субботу, телефон лопался от тревожных и загадочных сообщений от Лэнса, Джерома и друзей из Эл-Эй.
У меня слишком дрожали руки, чтобы снова устанавливать «Твиттер» на телефон, так что я открыла его на компьютере. Вчера ближе к ночи на мои последние твиты ответила сама Жасмин Уайлд, не забыв поделиться ими на своей странице.
Являясь цветным человеком, я потрясена тем, что Боди Кейн считает себя вправе определять свой опыт как «НАСТОЯЩЕЕ надругательство», обесценивая при этом самый настоящий опыт кого-то вроде меня.
Это породило новую цепочку комментариев, но я вернулась к ее видео и уставилась на ее песочные волосы, чувствуя себя такой же дурой, как когда думала, что Омар араб. Я написала Джерому: «Являясь цветным человеком??? Ты посчитал это не стоящим упоминания?»
Он ответил: «ХЗ что она несет. Я клянусь, она ни словом не обмолвилась об этом. У нее голубые глаза! Я ни ухом, ни рылом, Боди».
Я вернулась к комментариям. Кто-то спрашивал об этнической принадлежности Жасмин, кто-то говорил, что такой вопрос — проявление агрессии, кто-то вспомнил Рэйчел Долежал, [45] кто-то написал:
«Она на четверть боливийка» и дал ссылку на интервью, где она упоминает свою боливийскую abuela, [46] отцом которой был немец, из чего следует, как заметил кто-то еще, что она боливийка фактически на одну восьмую. Ниже кто-то запостил расистскую гифку с Элизабет Уоррен [47] в образе Покахонтас, еще кто-то написал: «Она даже не говорит по-испански», кто-то ответил в восьми комментариях, что придираться к этничности — это расизм.
Моим первым побуждением было объясниться, но это неизбежно сделало бы все еще хуже.
Извинения тоже сделали бы только хуже всем участникам дискуссии: я знала, как работает интернет.
Сообщение от Лэнса: «Позвони пожалуйста? Мы только что потеряли „Людей цветов“ и „Свежий пир“».
Но я закрыла «Твиттер» в надежде, что все как-нибудь пройдет. И это пройдет, напомнила я себе. Больше я ничего не скажу. Людям надоест. Не сегодня завтра Трамп опять ляпнет какую-нибудь дичь, и все станут это обсуждать.
Я написала это Лэнсу и добавила: «Больше я туда ни ногой. Ни слова не напечатаю».
Я удержалась от того, чтобы выбросить компьютер в окно, и вместо этого взяла его с наушниками в столовую, проверять первые серии учеников и ждать Яхава. Я решила, если он не объявится, мне будет чем заняться, помимо рагу.
Сидя за стойкой фруктово-салатного бара (фруктово-салатного!), я смотрела, как подтягиваются ребята на поздний завтрак — заспанные одиночки, болтливые пары и громогласные потные орды с тренировок, — и всеми силами старалась упорядочить свои мысли, игнорируя настырную пожарную сирену в голове.
У моих учеников еще будет возможность что-то перемонтировать, а к следующей пятнице они должны были смонтировать вторую серию. Я им сказала, что если они сделают третью, то смогут выслать ее мне после миниместра, и я выскажу свои замечания. Идея в том, чтобы они запустили свой групповой портал на школьном сайте до начала февральской недели. На меня нахлынула новая волна опасений по поводу того, что в первой серии Бритт прозвучит мой голос: если ее подкаст выйдет сейчас и к нему прицепится кто-нибудь из недовольных, Бритт может оказаться втянутой в эти дрязги наряду со мной и Джеромом.
Ольха был не готов показать свой подкаст на уроке, но прислал его мне на почту вечером в пятницу.
Это помогло мне отвлечься, но повествование было путаным и чересчур амбициозным. На середине Ольха обратился ко мне: «Окей, как вам, мисс Кейн? На данный момент я думаю, что в окончательной версии сделаю что-нибудь типа с другими учениками. Типа попрошу прочитать последний текст на своих телефонах». Я не представляла, какое все это может иметь отношение к 1930-м, но какой подросток в состоянии придерживаться плана?
И вдруг, о чудо: в дверь вошел Яхав, на пять минут раньше времени, — щеки горят, глаза и нос текут. Он сказал, что припарковался перед кампусом, хотя я подробно объяснила ему, где буду ждать. Он никак не мог перевести дыхание — возможно, из-за ходьбы, но скорее всего оттого, что увидел меня. Он сказал:
— Здесь настоящий лес.
Я обняла его, стряхнув с него холод, и вдохнула его запах: чистый, но потный. Он был неразумно красив. Его отчетливый акцент не затруднял понимания, и все, что он говорил, звучало как реплики из грустного артхаусного фильма. В силу каких-то причин, которые я не могу определить, он был для меня воплощением некоего платоновского идеала, сочетавшего мужественность и сексуальность, словно плод моего воображения. Мне никогда до конца не верилось, что он настоящий.