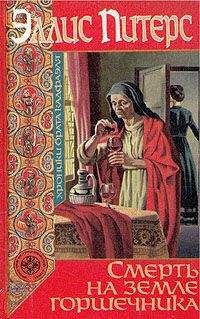Эллис Питерс - Монаший капюшон
Он и сейчас не видел пути назад – именно это ощущение безысходности и привело его сюда. Вовсе не жажда отмщения заставила Меурига искать этой встречи, даже если сам он искренне полагал иначе.
– И я пошел до конца. Я боролся за Малийли, за землю, любовь к которой ввергла меня в грех, боролся изо всех сил. Я ведь никогда не испытывал ненависти к отцу, ей-Богу... если бы только я мог получить Малийли честным путем! Я потерял все, но это справедливо, и я не ропщу. Теперь можешь передать меня в руки закона, чтобы я заплатил за его жизнь своей. Я должен ответить за свое злодеяние, и по доброй воле пойду с тобой, куда ты укажешь.
Меуриг тяжело вздохнул и умолк, уронив голову на руку Кадфаэля. Не промолвив ни слова, монах возложил другую руку на густые, темные волосы молодого валлийца. Хоть он и не был священником и не мог даровать отпущение грехов, сейчас судьба уготовила для него нелегкое бремя: быть исповедником и судьей. Отравление – самое подлое убийство, иное дело удар клинком – тот, по крайней мере, мог внушить уважение. И все же... Разве жизнь обошлась с Меуригом по справедливости? По натуре он добр, мягок, незлобив, однако роковое стечение обстоятельств заставило его пойти против собственной природы. И он уже наказан осознанием своего смертного греха. Умершего не вернешь, так какой же прок во второй смерти? Господу ведомы и другие пути восстановления справедливости.
– Ты просил, чтобы я назначил тебе покаяние? – вымолвил наконец Кадфаэль. – Скажи, ты по-прежнему этого хочешь? А хватит ли у тебя сил вынести его и сохранить веру, сколь бы тяжким оно ни оказалось?
Голова юноши шевельнулась на коленях монаха.
– Я вынесу все, – прошептал Меуриг, – и все приму с благодарностью.
– И ты не хочешь легкого покаяния?
– Я хочу того, что положено мне по моим грехам. Как иначе обрету я покой?
– Хорошо, Меуриг, ты сам этого просил. Ты пришел сюда, чтобы отнять мою жизнь, но когда настало время нанести смертельный удар, не смог этого сделать. Так какую же пользу может принести миру твоя смерть? А вот твои руки, твоя сила, твоя воля, все то доброе, что осталось в тебе, может еще принести немало блага людям. Ты хочешь заплатить сполна. Что ж, плати! Покаяние твое продлится всю жизнь. Я возглашаю: ты должен жить – и да будет твоя жизнь долгой! – ибо ты проведешь ее в заботах о ближних, возвращая долги всем насельникам мира сего. Может статься, все будут говорить о твоих добрых делах, и никто не помянет сотворенного некогда зла. Такова епитимья, которую я на тебя налагаю.
Ошеломленный и недоумевающий Меуриг медленно поднял голову и взглянул на монаха. В глазах его не было радости или облегчения: он был до крайности озадачен.
– Ты говоришь это серьезно? Это все, что я должен делать?
– Именно это ты и должен делать. Живи, врачуя свою душу, при виде грешника вспоминай о собственной слабости, силу же используй, служа невинности и добродетели. Твори добро по мере возможности, а остальное предоставь милосердию Господню. Многим ли больше дано содеять и святым?
– Но ведь меня будут преследовать, – промолвил удивленный Меуриг, все еще сомневавшийся в том, что правильно понял монаха. – Если меня схватят и повесят, ты не будешь считать, что я тебя подвел?
– А никто тебя не схватит. К завтрашнему дню ты будешь уже далеко отсюда. Здесь, рядом с овчарней, конюшня, а в ней стоит лошадь – та самая, на которой я сегодня ездил в Лансилин. Насколько мне известно, в здешних краях лошадей частенько крадут – что поделаешь, исконная валлийская забава. Но эта лошадь не будет украдена. Я разрешаю тебе взять ее и буду в ответе за ее пропажу. Верхом можно добраться куда угодно – перед тобой целый мир, в котором найдется место для истинно раскаявшегося грешника. Перед тобой путь длиною в жизнь, пройди его шаг за шагом, и приблизишься к обретению милости Господней. На твоем месте я бы поспешил на запад, перевалил через холмы еще до рассвета, а потом повернул на север и отправился в Гуинедд, где о тебе никто не слышал. Ну да ты эти горы знаешь лучше, чем я.
– Я знаю их как свои пять пальцев, – кивнул Меуриг, – но неужто это все? Все о чем ты меня просишь?
– Погоди, эта епитимья еще покажется тебе совсем нелегкой. Впрочем, есть у меня к тебе еще одна просьба. Когда доберешься до безопасного места, исповедайся во всем священнику и попроси его записать твое признание и отослать грамоту шерифу в Шрусбери. Эдвина освободят из темницы, как только получат известие о том, что случилось сегодня в Лансилине, но я не хочу, чтобы после твоего побега оставалась хотя бы тень сомнения в его невиновности.
– Я тоже, – отозвался Меуриг, – и непременно все так и сделаю.
– Ну тогда езжай – тебе предстоит долгий путь. Да подбери свой нож, – улыбнулся монах, – он тебе еще пригодится: хлеб резать или дичь разделывать.
Таков был неожиданный конец этой встречи. Меуриг поднялся, словно во сне, исстрадавшийся, но обновленный, как будто благотворный дождь, пролившийся с небес, очистил его от скверны. Погасив фонарь, Кадфаэль взял юношу за руку и повел к выходу. Стоял легкий морозец, светили звезды, и ничто не нарушало ночного безмолвия. В конюшне монах сам оседлал лошадь.
– Ты уж не мучай лошадку, дай ей отдохнуть, когда сам будешь в безопасности, конечно. Ей, бедняжке, сегодня уже пришлось меня возить, правда, путь был не дальний. Я бы дал тебе мула, он посвежее, но все одно, конской прыти у него нет, да и где это видано, чтобы валлиец ехал на муле, – чего доброго, народ станет любопытствовать. Так что, приятель, садись на лошадку. Езжай с Богом!
Меуриг вздрогнул, но его бледное лицо осталось сосредоточенным и решительным. Уже занося ногу в стремя, он промолвил голосом, исполненным бесконечного смирения:
– Благослови меня! Ибо, пока жив, я во всем буду следовать твоему велению.
Меуриг поднялся по склону тропами, петлявшими между выпасов, и растворился во тьме. Эти горные тропки он знал куда лучше того, кто позволил ему вернуться в мир людей.
Кадфаэль проводил его взглядом и повернул к хижине.
"Что ж, – размышлял монах по пути, – если я выпустил тебя в мир таким же, каким ты был прежде, если ты не переменился и по-прежнему опасен, если ты забудешь о покаянии, как только окажешься в безопасности, – то это моя вина."
Однако, по правде говоря, монах не слишком сильно тревожился, и чем дольше он раздумывал о случившемся, тем крепче становилась его уверенность в том, что все сделано правильно, и тем спокойнее становилось у него на душе.
– Что-то ты припозднился, брат, – ласково попенял ему Симон, как только Кадфаэль переступил порог хижины и оказался в приятном тепле. – Мы уж было тревожиться начали.
– Да я, брат, задержался в овчарне. Уж больно овечки успокаивают, да и думается среди них легче. И ночь сегодня выдалась на диво.
Глава одиннадцатая
Рождество в Ридикросо удалось на славу: Кадфаэль и припомнить не мог такого мирного и беззаботного праздника. После всего, что монаху пришлось пережить за последние дни, работа на свежем воздухе была для него благословением. Безыскусную простоту праздничной пастушеской трапезы он ни за что бы не променял на пышный и строгий церемониал аббатства.
Еще до того как первый снег запорошил дороги, отбив у многих охоту пускаться в путь, в Ридикросо прибыл гонец из Шрусбери. Он ввалился в хижину, когда трое братьев старательно, хотя и не слишком благозвучно, исполняли Рождественское песнопение. Голоса у них были не ахти, зато пели они от чистого сердца. Хью Берингар извещал о том, что Лансилинский суд прислал в Шрусбери грамоту, обличавшую Меурига, к тому же на отмели близ Этчама удалось отыскать ту самую шкатулочку, которую Эдвин смастерил для своего отчима в знак примирения. Вещица, понятное дело, пострадала от воды, но опознать ее было нетрудно. Так что мальчик вернулся домой, в объятия любящей матери, да и все домочадцы Бонела смогли наконец вздохнуть с облегчением. Сообщение о достойной порицания беспечности брата Кадфаэля, забывшего запереть конюшню, что послужило причиной покражи принадлежавшей аббатству лошади, было с подобающим неудовольствием выслушано на заседании капитула. Разумеется, по возвращении нерадивому брату придется держать ответ.
Что же касается Меурига, разыскиваемого за убийство по всему Уэльсу, то напасть на его след так и не удалось, и надежды на поимку беглеца таяли с каждым днем. Правда, один священник, который вел отшельническую жизнь в Пенллине, дал знать, что он исповедовал Меурига в своей хижине и тот добровольно сознался в совершенном преступлении, однако это вряд ли могло помочь преследователям, поскольку беглец давно уже ушел и оттуда. Не приходилось рассчитывать и на то, что Овейн Гуинеддский позволит англичанам ловить беглеца, укрывшегося в его владениях, тем паче, что тот ему ничем не насолил: проморгали пташку – сами виноваты.
Все и впрямь складывалось как нельзя лучше. Кадфаэль возился с овечками и был доволен и счастлив, справедливо полагая, что заслужил право на это безмятежное уединение. Он и думать не хотел о том, что творится на всем белом свете. Если он и сокрушался, то только о том, что глубокий снег, засыпавший все горные тропы, лишил его возможности навестить Ифора, сына Моргана. Монах считал своим долгом попытаться хоть как-то утешить старика. Понятно, что его слова – слабое утешение, но и малой возможностью пренебрегать не следует. Правда, Ифор многое повидал на своем веку, а древние старцы стойко переносят удары судьбы.