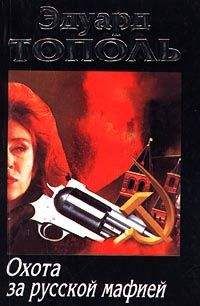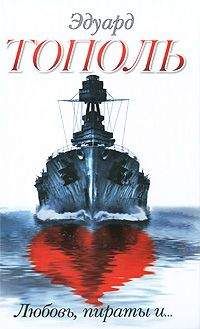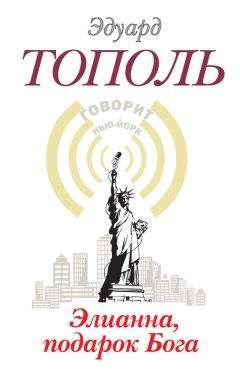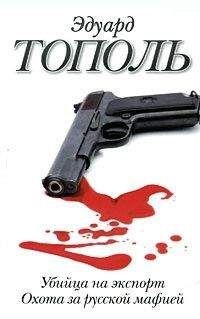Эдуард Тополь - Римский период, или Охота на вампира
Яша Пильщик обреченно закрыл глаза. Боже, что они несут! Все, сейчас сюда ворвутся санитары, всех изобьют, закатают в мокрые смирительные рубашки и исколют аминазином и сульфазином.
Но время шло, диспут продолжался, докладчики выступали, стоя и сидя на своих койках или расхаживая по узкому проходу меж кроватей, спорили, хохотали и даже кричали, но никто не врывался в эту палату, никто не останавливал этих умников, и Яков, позабыв о боли в паху и не обращая внимания на особо мудреные термины вроде «релятивизм» и «эскалация», с удивлением узнавал совершенно необычные вещи.
– Минуточку! Товарищи евреи! Раз уж мы сидим в психушке, то давайте разберемся с точки зрения психиатрии – что такое российская ментальность? История показывает, что это ментальность губки, которая впитывает в себя абсолютно все – начиная от христианства и татарского мата до французской кулинарии, прусской маршировки и немецкого марксизма. Причем все это тут же гиперболизируется, всему этому немедленно придается экстремальная форма – русские христиане объявляют себя богоборцами и строят под Москвой Новый Иерусалим, русские цари называют себя императорами и мечтают сделать Москву вторым Римом, русские марксисты устраивают революцию, а русские антисемиты – кровавые погромы. Поэтому ждать тут спада антисемитизма не приходится…
– А что, разве антисемитизм тоже пришел сюда из-за границы?
– Конечно!
– Не выдумывай! Еще в Киевской Руси князь Владимир брал десять гривен штрафа с мужей, чьи жены бегали к жидам трахаться!
– Ну, то в древности! А в новой истории мы российским антисемитизмом обязаны французским писателям. Да, да! Сначала Шарль Фурье, Альфонс Тусснель и Анри Дрюмон, а следом за ними Бальзак, Золя и Анатоль Франс создали в литературе галерею самых отвратительных персонажей еврейской национальности – вспомните Гобсека у Бальзака и Гундермана у Золя. Причем антисемитизм этих писателей вырос на чисто французских проблемах – сначала республиканское правительство, где министром финансов был еврей Поль Бер, обанкротило католическую церковь, а потом, после поражения Франции во франко-прусской войне, в чем евреи уж никак не были виноваты, – французам просто нужно было на ком-то сорвать свое зло. И вот на этой французской литературе как раз и воспитывалось тогда все российское дворянство, и вместе с французским букварем дети русских дворян усваивали французский антисемитизм…
36Вы когда-нибудь видели летнюю грозу в феврале? Чтобы теплый ливень сек оконное стекло, чтобы молнии белыми грифами раскалывали тучи над чернильным морем, чтобы гром трещал, как тысячи разом разрываемых простыней, и чтобы ветер гнал по пляжу взбитую пену прибоя, колотящего в берег многотонными волнами…
Я сижу за своей пишмашинкой в идиллии пустого зимнего итальянского курорта, о которой мечтали все русские писатели – от Достоевского и Гоголя до Максима Горького. Я сижу в маленькой комнатушке с полированным мраморным полом, с католическим распятием на стене и с односпальной кроватью под окном, выходящим на Средиземное море. На Средиземное море – каково, господа-товарищи? Моя походная электроплитка варит мне кофе в турке – настоящий колумбийский кофе, который утром мне в пыль смолол синьор Марио в «Mario Supermercato», а возле моих ног лежит полный таз мандаринов, которые тут дешевле грибов, – на Круглом, возле центрального римского вокзала, рынке их продают не поштучно и не килограммами, а – ведрами! Как яблоки на Украине!
Боже мой, неужели я сейчас будут писать что хочу – без цензуры, без оглядки на редакторов «Мосфильма» и Госкино? Витя Мережко, Эдик Володарский, Толя Гребнев, Валерий Фрид, Женя Григорьев, Валя Ежов, Вадик Трунин, Андрей Смирнов – вы даже не представляете, какой это, оказывается, кайф писать все, что душа желает! И где? В солнечно-лимонной Италии!
Горький, став миллионером на своей пролетарской литературе, поселился в Италии, на Капри.
Гоголь выклянчивал у своей мамы деньги, чтобы подольше сидеть в Риме и писать тут «Мертвые души».
Достоевский проживал тут все свои гонорары и выскабливал из издателей еще и еще – лишь бы во Флоренции и Венеции работать своего «Идиота».
Тургенев в Италии начал писать «Дворянское гнездо».
Пушкин рвался сюда, да что Пушкин – сам Александр Первый инкогнито срывался в Рим «оттянуться» на римских карнавалах!
А я – и не Пушкин, и не Гоголь, и даже не Витя Мережко – вырвался из СССР и сижу на курорте под Римом, и ХИАС дает мне 150 миль в месяц – это огромные деньги, это почти 130 долларов, – просто так дает, ни за что, или, точнее, только за то, что я еврей! Блин, вот, оказывается, сколько я стою! Они выкупили меня у ЦК КПСС или выменяли на зерно и бурильные станки и еще приплачивают мне, чтобы я пару месяцев отдыхал тут от СССР в ожидании въездной американской визы. Вот, оказывается, сколько я стою! Без своих фильмов, без вгиковского диплома, без ничего… А когда там, в СССР, я, автор семи художественных фильмов, попросил у Моссовета разрешения на московскую прописку – что мне сказали? Что комиссия старых большевиков при Моссовете, рассмотрев мое заявление, не сочла возможным удовлетворить мою просьбу. Не сочла…
Ну так пошли они в жопу, эти большевики!
Да, представляете, братцы, теперь я могу писать даже так и еще крепче – матом!
Но я не буду больше о них писать, не буду! Пусть их смоет дождем, пусть унесет их от меня как пену…
И даже о своих евреях я сегодня писать не буду, хватит публицистики!
Сегодня я буду писать о себе.
Потому что я – идеальный герой для фильма об эмиграции. Холостой сорокалетний еврей с немереным честолюбием и всеми остальными еврейскими комплексами. С сестрой, улетевшей из Вены в Израиль столь драматическим образом. (Даже когда я бежал за микроавтобусом, увозившим ее и Асю в израильский лагерь, рядом со мной бежал киношник и запоминал четко, как профессиональный убийца: вот так это надо снять в кино – изгиб дороги… крыша удаляющегося микроавтобуса… солнце слева, над лесом… и герой, который, бросив вещи, бежит за сестрой в потоке лакированных холодных машин…) А потом этот герой (в исполнении Ричарда Дрейфуса или Дастина Хоффмана, не меньше!) стирает свои носки в номере дешевого венского отельчика и варит курицу на походной электроплитке… И делает по утрам зарядку возле ежеминутно громыхающего сортира… И на трамвайных остановках засматривается на отмытых и откормленных австрийских девчонок в надежде увидеть в их глазах тот знакомый ёкающий сигнал готовности, который он так часто ловил в глазах московских див…
Но глаза австрийских див – пустые и по-рыбьи холодные. Или этот сигнал пишется по-немецки совсем другим знаком? Или я разучился читать в женских глазах?
Да, сытые юные австрийки открыто целуются со своими парнями в метро и на улицах, но даже это у них – как-то бесполо, как-то формально и без вожделения, словно утренний «Гутен таг». И вся их западная жизнь для меня – как за стеной аквариума…
И вдруг – Сильвия, этот блицроман без гроша в кармане, а теперь вот – Инна.
Инна! Конечно, раз уж она появилась в Вене в один день со мной, то рано или поздно мы должны были встретиться – жизнь такой неловкий драматург, что порой меня просто оторопь берет от примитивности ее сюжетных ходов. Но должен ли я поправлять их или оставить в своем фильме все так, как было?
А было так…
Темный итальянский вечер, все та же центральная виа Санта-Мария в Ладисполи, и они идут мне навстречу – Инна со своим громадным мужем и маленькой дочкой.
Светлые волосы – но разве тогда, шесть лет назад, у нее были светлые волосы?
Я приближаюсь к ним и говорю:
– Ага! Наконец-то! Привет!
Я произношу это подчеркнуто приятельским тоном, словно мы старые добрые друзья и я могу обнять их обоих за плечи.
– Привет! – говорит она мне в тон. – Я уже издали вижу, что это ты – такая стремительная походка, как будто сбежал от какой-то женщины!
В ее голосе нотка ревности – не знаю, заметил ли это ее муж, но я заметил и не стал их разуверять. В конце концов, если ее муж будет уверен, что у меня тут есть женщина, ему будет спокойнее. И я пропускаю ее укольчик мимо ушей и спрашиваю:
– Ну и где же вы тут живете?
Инна тут же перехватывает мой вопрос, на лету перехватывает, как теннисный мяч:
– А пойдем к нам!
– Пойдем, – разом соглашаюсь я, потому что мне давно пора знать, где они живут, и потому что он, ее муж, еще не успел возразить.
И мы идем по пустому, как театральные декорации, Ладисполи, с непривычно низкой и яркой, как мандарин, луной над плоскими крышами итальянских casa, то бишь домов; мы идем от моря на окраину города, но это дорогая окраина с виллами и богатыми трехэтажными домами, с плавательными бассейнами и цветными гипсовыми гномами за узорчатыми заборами. В одном из таких домов поселились Илья и Инна – просторная меблированная квартира с мраморным столом, с кожаной мебелью и мраморными амурчиками у балкона. Но я вижу, как нервно и резко ломается тонкая Иннина фигура, когда она стремительно огибает этот мраморный стол, чтобы поспеть на кухню к закипевшему чайнику, и одновременно старается не пропустить ни слова из моего трепа с ее мужем, чтобы я, не дай Бог, не ляпнул ему чего не нужно. И при этом ей еще нужно занять трехлетнюю дочь, чтобы та не приставала ко мне. Но девочка все равно пристает, потому что я общаюсь с ней как с равной, ведь в этой ситуации она для меня как палочка-выручалочка. И я говорю: