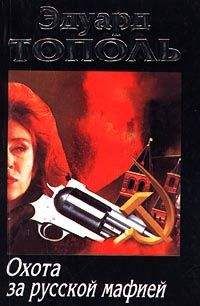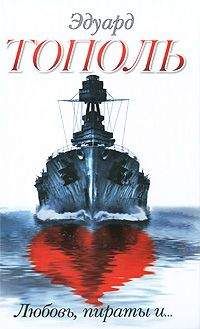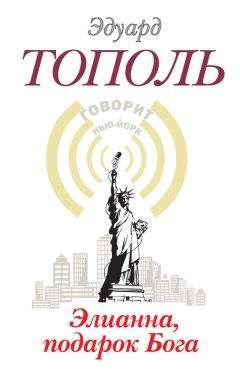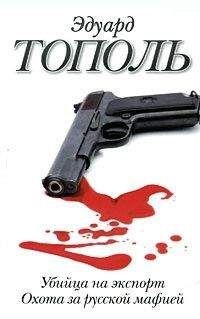Эдуард Тополь - Римский период, или Охота на вампира
– Синьор, апартаменто?
– Синьора, аренда апартаменто?
Отправив открытки Сильвии и Белле, я вышел с почты на виа Санта-Мария, и что-то вековечное и наследственное, как «Хава нагила», вдруг привиделось мне в этом библейском шествии наших евреев – словно они только что вышли из Египта или Испании и вошли в Италию.
– Синьор, аренда апартаменто?
– Шлимазл! Ты шо, не видишь, шо это наш?! Товарыш, дэ тут квартиру снять?
И сразу – как толчком из сердца или как наплывом в кино – я вспомнил Полтаву 1947 года и точно те же слова:
– Идышер коп, чи ты знаеш, дэ тут притулыться?
Полтава, знаменитая крутыми украинскими погромами и шведской битвой, была в руинах и через два года после окончания войны. Фрунзе, Октябрьская и все остальные центральные улицы стояли шеренгами четырехэтажных кирпичных остовов с проломленными при бомбежках кровлями и выбитыми окнами, и завалы битого кирпича да красная кирпичная пыль лежали на искореженных мостовых.
И вот по этим улицам, вдоль разбитых, как черепные коробки с пустыми глазницами, домов возвращались евреи на свои пепелища, толкая перед собой тележки со скарбом – фибровыми чемоданами, узлами и баулами. Сверху на узлах сидели дети, сзади, держась за юбки матерей и пиджаки стариков, тоже шли дети, и я никогда не забуду того старика и старуху с жалким скрипучим столиком от швейной машины, нагруженным каким-то дырявым барахлом, – они шли, плакали и пели. Я не знал тогда, что они поют, это было что-то гортанное и совершенно непонятное мне, мальчишке из подвала, где в одной комнате, освобожденной нами от битого кирпича, жили четыре семьи. Я смотрел на них с высоты разбитой кирпичной стены и не понимал, как тут можно петь («Мама, они что, мишигине[24], что ли?»), но этот гортанный мотив и вся эта картина с плачуще-поющими еврейскими стариками, толкавшими перед собой станок швейной машинки «Зингер» с нищенским багажом, – эта картина упала мне в сердце. У старика были почти слепые глаза, куцая борода, но хороший, звучный голос. И на этот голос мы, пацаны, вылезали из подвалов и бомбоубежищ:
– Эй, мишигине коп![25] Ты шо, здурив?
А потом из этих подвалов, из этой почвы, которую так щедро удобрили кошерной еврейской плотью их величества Богдан Хмельницкий, Петлюра, Гитлер и еще бог знает кто, росли мы – рыжие, веснушчатые, золотушные еврейские дети, росли без еврейских песен и еврейских школ, и первым вкусом моего еврейства был шматок сала, который, скрутив мне руки и повалив меня на землю, совали мне в рот украинские пацаны, говоря: «Йыш, жиденок! Йыш нашэ сало, жид пархатый!»…
Тридцать лет спустя другой великий старик – Леонид Утесов напел мне песню, которую пел тот старик в Полтаве 47-го года. И оказалось, что эта песня – «Хава нагила».
Теперь в Ладисполи под эту мелодию, ожившую в моей душе голосом Леонида Осиповича, шли евреи по виа Санта-Мария, как тогда они шли по улице Фрунзе. Но вдруг…
Что-то сломалось в этой процессии, какие-то машины остановились рядом с ней, какие-то люди выскочили из них, налетели на наших. Неужели погром?
Нет, успокойтесь, это свои, это перекупщики – несостоявшиеся граждане Израиля, сбежавшие из Тель-Авива и застрявшие в Италии без работы и надежды, что их пустят в США, Канаду или вообще куда-нибудь – даже назад, в СССР. Теперь они скупают привезенные эмигрантами льняные простыни, полотенца, скатерти, кораллы, фотоаппараты, фотообъективы, водку, икру, шампанское и даже стиральные и швейные машины. Обычно они покупают это не намного дешевле, чем сами новоприбывшие, освоившись, смогут продать итальянцам, но вечно напряженный и боящийся подвоха эмигрант в каждом из них видит своего родного еврейского жулика, и одесский торг начинается сразу, с первых слов:
– А сколько вы дадите за простыни?
– Ну это же ваши простыни. Называйте свою цену.
– Свою цену! Вы скажите, сколько вы можете дать, так я вам скажу свою цену!
Спустя час перекупщики, увешанные фотоаппаратами, как бананами, загружают в багажники своих «фиатов» кипы льняных простыней и скатертей и отбывают к следующим эмигрантским становищам. Где и кому, в каких Неаполях и Соррентах продают они эти сотни «Зенитов» и тысячи русских простыней, я не знаю, я никогда не видел такого количества кораллов, янтаря, черной икры, финифти, палеха, мсты, хохломы, фотоувеличителей и фотоаппаратов «Зенит», какое увидел в первые дни в Италии. Каждый еврейский чемодан, пересекший границу СССР, – это наверняка «Зенит». Сорок тысяч евреев эмигрировали из СССР в 1979 году, и я могу поспорить, что 39 000 фотоаппаратов «Зенит» выехали вместе с нами.
Сбыв перекупщикам «римский набор», кровью и зубами вырванный у советских и австрийских таможенников, эмигранты спешат в ближайшие итальянские лавки обрести наконец самое вожделенное для советского человека – американские джинсы «Леви» и еще более вожделенное для каждого советского еврея – могендовид[26] на золотой цепочке. Только жгучая необходимость отсюда, из Италии, помогать сестре и племяннице в Израиле удержала и меня от этих покупок. Я тоже хотел (и хочу, не скрою!) американские джинсы и могендовид – а что, разве я не советский еврей, господа?
35– В двадцатые годы СССР не знал официального антисемитизма, а проявление бытового антисемитизма подвергалось преследованиям. На то были две причины. Во-первых, официальной линией власти по отношению к евреям была линия на «добровольную ассимиляцию», определенная Лениным. Во-вторых, евреи, вырвавшиеся из гетто в чертах оседлости, приняли непропорционально высокое участие в революции, заняли высокие посты и, что самое главное, заменили ту старую интеллигенцию, которая была изгнана революцией из России. Можно сказать, что в то время сложилась новая, русско-еврейская интеллигенция, которая играла ведущую роль в советской жизни. Возрождение антисемитизма произошло в годы Второй мировой войны…
Яков Пильщик (он же Богул) боялся открыть глаза. Что это? Бред? Сон?
Но голос был четкий, внятный, лекторский:
– Это возрождение шло сверху и снизу. Сверху, потому что Сталин взял курс на превращение страны в империю…
Пильщик (Богул) открыл глаза. Прямо над ним была металлическая сетка и ватный матрац, с которого свисали чьи-то босые ноги, а слева, буквально в метре, по узкому проходу меж стеной и рядом двухъярусных коек расхаживал высокий горбоносый брюнет в тапочках и серой пижаме.
– А снизу, – говорил этот мужчина типично лекторским тоном, – этот курс получил поддержку в народном антисемитизме, пробудившемся за годы войны под влиянием гитлеровской пропаганды. Причем поначалу этот антисемитизм был лишь способом замены евреев на высоких должностях носителями идеи создания национал-большевистской империи…
– Погоди, Рафик! – перебил лектора чей-то голос. – Кажется, он проснулся.
– Это не важно! – отмахнулся лектор. – Прошу не перебивать…
– А если он стукач?
– Ну и на здоровье!
– Мы же в психушке… – весело зашумели вокруг. – Здесь свобода слова!..
– Тише, евреи! Дайте человеку сказать!
– Гинук![27] – приказал лектор. – Дайте закончить мысль!..
Так, подумал Пильщик-Богул, опять психушка. И повернулся на бок, чтобы разглядеть своих соседей, но при первом же движении ощутил резкую боль в паху. Господи, что это? Ах да, обрезание… Значит, шевелиться нельзя… Но можно слушать, это отвлекает от боли…
– В настоящее время, – снова зашагал лектор в стоптанных больничных тапочках, – советский строй ускоренно сбрасывает с себя лохмотья марксистской идеологии, превращаясь в откровенный русско-великодержавный тоталитарный строй. Антисемитизм становится естественной составной частью государственной идеологии и помогает правительству решить сразу несколько задач: объявить, что главными виновниками всякого диссидентства являются евреи…
Осторожно повернув голову, Пильщик все-таки оглядел свою новую палату. В ней тесным строем стояли одиннадцать двухъярусных коек, на каждой из них сидели и лежали больные с ярко и неярко выраженной внешней принадлежностью к еврейской нации. Один из них – кругленький толстячок – поднял руку:
– Минуточку, Рафик! Я с тобой целиком согласен, но! Мне кажется, что антисемитизм нынешний, советский сильно отличается от антисемитизма, который существовал на протяжении последних двух тысячелетий. При всех проявлениях старого антисемитизма Европа тем не менее исповедовала иудейские понятия добра и зла и иудейские моральные принципы: не убий, не возжелай жены ближнего своего и прочие. Христианство переняло эти заповеди и даже усугубило чувство греха за их неисполнение. То есть христиане постоянно жили в страхе перед грехом за неисполнение наших моральных законов и заповедей. А советское общество стало открытым антиподом этой цивилизации, здесь понятия совести и греха в их религиозном, божественном смысле отброшены, а вместо них введен принцип релятивизма – хорошо то, что полезно тебе, власти и делу построения советской империи. Но в таком государстве антисемитизм неизбежен, потому что иудаизм и еврейство в корне отрицают культуру безбожия…