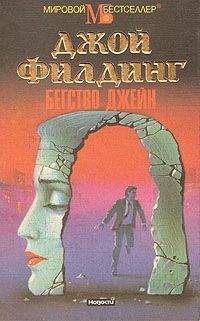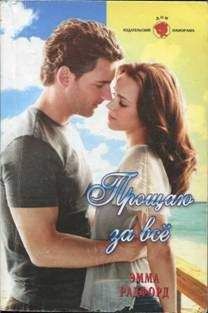К. Сэнсом - Седьмая чаша
— Миссис Эллен, доктор Малтон хотел бы перемолвиться с вами парой слов, — смущенно проговорил я.
Звякнув ключами на поясе, смотрительница встала, и мы вышли из комнаты.
— Я приношу извинения за выходку Джейн, — сказала она, внимательно глядя на меня. — Она глубоко сожалеет о случившемся. Но приход посетителей неизбежно приводит пациентов в возбужденное состояние, и с этим приходится мириться.
— Я понимаю.
— Сегодня за ней придется присматривать внимательнее, чем обычно, иначе она может причинить себе какой-нибудь вред.
Гай стоял в коридоре и наблюдал за Адамом сквозь смотровое окошко. Услышав наши шаги, он с улыбкой повернулся к Эллен.
— Мой друг говорит, что вы очень добры к Адаму.
Женщина зарделась от смущения.
— Я стараюсь.
— Он очень болен.
— Мне это известно, сэр.
— Очень важно, чтобы он все время находился под замком и не мог выбраться отсюда, иначе он может совершить какую-нибудь глупость. Но при этом не менее важно, чтобы он содержался в чистоте и ежедневно принимал пищу, даже если будет противиться этому. И постарайтесь — только очень мягко — отвлекать его на различные повседневные мелочи: необходимость есть, находиться в тепле и так далее.
— Как если бы он хандрил и его нужно было вытащить из этого состояния? Но у Адама не просто хандра, с ним все гораздо хуже, сэр.
— Я знаю, но все же постарайтесь выполнить мою просьбу. Согласятся ли другие смотрители помочь вам?
— Одни согласятся, другие нет. Но я передам главному смотрителю Шоумсу, что таковы ваши указания. — Женщина язвительно улыбнулась. — Он очень боится адвоката Шардлейка.
— Вот и хорошо. — Гай похлопал меня по плечу. — Идем, Мэтью. Найдем спокойное местечко, где мы могли бы потолковать. Кроме того, я сейчас ощущаю настоятельную потребность выпить чего-нибудь покрепче.
Мы зашли в ближайшую таверну. Я взял бутылку вина и две кружки. Гай сидел, нахмурившись, с крайне озабоченным видом.
— Этот парень, Адам, обратил внимание на цвет моей кожи, — неожиданно сказал он. — В его глазах промелькнул огонек удивления.
— Да, я это тоже заметил.
— Это, а также то, что мне, пусть и ненадолго, удалось его разговорить, вселяет надежду. Значит, его все же можно отвлечь от бесконечных молитв.
— На него страшно смотреть. Эта история о том, как его везли в преисподнюю…
— Он страдает, как любой другой. Мне приходилось видеть такое. Это отчаяние.
Гай нахмурился.
— И само это место… — Я с неодобрением покачал головой.
— Некоторым больным, не имеющим семьи, которая могла бы о них позаботиться, в Бедламе лучше. В противном случае они просили бы подаяние в городе или скитались бы в лесах, как дикие звери. А Адаму, окажись он на воле, грозила бы нешуточная опасность.
— Что ты о нем думаешь? Он производит впечатление безнадежного, неизлечимого больного.
Гай вновь задумался.
— Позволь мне спросить тебя кое о чем. Как по-твоему, что думает Адам Кайт о самом себе?
— Он полагает, что Господь оставил его.
— Это он думает о Боге. А о самом себе?
— Что он недостоин любви Всевышнего.
— Да, он занят лишь самоуничижением. Люди, считавшие себя недостойными, существовали с сотворения мира.
— Мы должны побороть это его убеждение с помощью здравого смысла, — предложил я.
— О, умоляю тебя, Мэтью! — улыбнулся Гай. — Если бы все было так просто! Нашим сознанием в большей степени правит не здравый смысл, а эмоции, и иногда они выходят из-под контроля.
Глаза Гая на мгновение стали невидящими, как в те минуты, когда он сидел в гостиной Бедлама, словно вглядываясь внутрь себя.
— А почему так происходит? — продолжил он. — Потому что иногда мы очень рано научаемся ненавидеть самих себя.
— Вполне возможно, — согласился я.
То, о чем говорил Гай, было мне хорошо знакомо. С раннего детства я выслушивал злые насмешки и был изгоем из-за моего физического дефекта, который со временем и мне самому стал казаться пугающим и постыдным.
— А эти радикальные церковники должны ненавидеть себя больше, чем кто бы то ни было. Как бы они ни пыжились на публике, они все равно понимают собственную никчемность, и если их души не попадут в геенну огненную, то лишь по необъяснимому Божьему промыслу.
— Когда наступит конец света, а это, как они утверждают, может произойти в любую минуту.
— Всегда существовали клерикалы, предрекавшие скорый апокалипсис, а среди фанатичной части прихожан людей, уверенных в этом, еще больше. Именно в такой среде и рос Адам. Как, по словам родителей, началась его болезнь?
Я пересказал Гаю то, что услышал от Кайтов. Что Адам рос жизнелюбивым, открытым ребенком, а неистовая религиозность начала формироваться у него сравнительно недавно, в результате чего он и дошел до своего нынешнего состояния.
— Они хорошие люди, — заключил я, — но находятся под влиянием своего пастора, лицемерного догматика по имени Мифон. Однако тревога за судьбу сына помогает им — особенно матери Адама — постепенно освобождаться от этой зависимости.
— Я должен встретиться с ними. — Гай поскреб подбородок. — Адам впал в такое состояние не просто так. С ним что-то произошло, и именно это «что-то» довело его до безумия. Его сон — ключ ко всему. Люди, которых он видел во сне, говорили: «Он столь мерзок, что место ему на самом дне адской бездны». И я думаю, он знает, кто правил каретой в его сне. Если мне удастся выяснить, кто это, мы, возможно, отыщем тропинку к его спасению.
— Ты возлагаешь слишком большие надежды на какой-то ночной кошмар.
— Сны — это ключи к пониманию, это путь. — Он покачал головой. — Сложно представить, что это мертвенно-бледное, изможденное создание было когда-то сильным, полным жизни юношей. Но безумие может разрушать не только разум, но и тело.
— Ты придешь к нему еще? — спросил я.
— Если этого захотят его родители и ты.
— Понятно.
Я с любопытством посмотрел на Гая.
— А я и не знал, что тебе приходилось иметь дело с умалишенными.
— Это входило в обязанности монастырского врачевателя. Меня всегда интересовали болезни ума, возможно, потому, что они столь разнообразны и их трудно сразу определить. По мнению некоторых, их порождает дисбаланс телесных жидкостей и приток дурных жидкостей к мозгу.
— Так же, как разлитие черной желчи приводит к меланхолии?
— Вот именно.
— Другие полагают, что психические болезни вызваны физиологическими нарушениями в мозгу, но обнаружить их, не считая смертоносных опухолей, насколько мне известно, пока никому не удалось.
Гай тяжело вздохнул.
— А есть типы вроде твоего друга Мифона, которые считают причиной душевных расстройств одержимость дьяволом и предлагают лечить их с помощью экзорцизма.
— К какой же школе принадлежишь ты?
— Я храню верность традиции Везалия, хотя у него было много интеллектуальных предтеч. Он начинает не с теории, а с того или иного нарушения: изучает его, исследует, пытается понять, в чем именно оно состоит и чем вызвано. Слова и действия безумца могут содержать в себе разгадку того, что происходит в его мозгу, и даже к сумасшедшему иногда применимы благоразумие и здравый смысл.
— Помнишь Сисси, пожилую женщину, которая была в гостиной? Именно так с ней ведет себя Эллен. Она пытается извлечь ее из ее внутреннего заточения, загрузить какими-то простыми будничными заданиями вроде шитья.
— Да, меланхоликам это может помочь. Имея дело с ними, главное — переключить их сознание с мрачных мыслей на повседневность.
— Послушай, — вдруг осенило меня, — а может, убийца Роджера страдает каким-нибудь душевным расстройством? Разве может нормальный человек совершить столь жестокое и бессмысленное на первый взгляд убийство?
«Два убийства», — мысленно добавил я, но вслух этого не сказал, поскольку не смел нарушить строжайший запрет Кранмера рассказывать Малтону про убийство доктора Гарнея.
— Вполне возможно, — согласился Гай. — Если только мастер Эллиард не дал кому-нибудь повода для столь ужасной мести, в чем я, как человек, знавший его, сомневаюсь.
— Да, такого быть не могло.
В моей голове родился еще один вопрос, и я сделал глоток вина.
— Гай, ты говорил, что некоторые монастырские врачеватели использовали двейл. Знаешь ли ты таких в Лондоне?
— Я и не знал их, Мэтью. Не забывай, я приехал в Лондон из Суссекса, после того, как мой монастырь был закрыт.
Он пристально посмотрел на меня.
— Ты думаешь о тех монахах, которые лишились всего, будучи изгнаны из монастырей?
— Да, — признался я.
— Тогда могу сообщить тебе, что из монастырской братии двейл применяли в основном бенедиктинцы. А единственным местом в Лондоне, где у ордена бенедиктинцев имелась больница, было Вестминстерское аббатство. Но, как я уже говорил ранее, применение двейла никогда не было секретом.