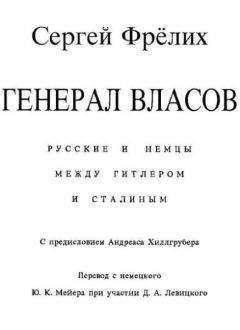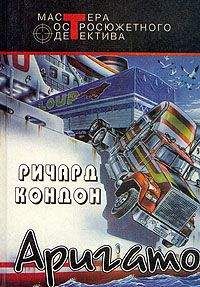Ричард Кондон - Маньчжурский кандидат
— Дорогой, — спросила как-то мать Реймонда, — ты иногда испытываешь желание выйти в туалет во время заседания своей комиссии?
— Конечно. Что я, по-твоему, из туалетной бумаги сделан?
— Ну, и как ты поступаешь в таких случаях?
— Как поступаю? Да очень просто — встаю и иду.
— Так я и думала. Завтра, когда тебе понадобится выйти, я хочу, чтобы ты сделал в точности то, что я скажу. Посмотрим, что из этого получится. Согласен?
Он мерзко ухмыльнулся.
— Прямо перед всеми этими камерами?
— Вот именно. Завтра, когда тебе понадобится выйти, ты впадешь в ярость — только смотри, чтобы попасть в поле зрения камер — начнешь биться о стол и вопить, пока председатель ни закричит: «К порядку! К порядку!» Тогда ты встанешь и скажешь, что не желаешь принимать участие в этом фарсе и больше ни секунды не удостоишь их своим присутствием.
— Зачем все это?
— Тебе нужно научиться правильно обставлять свой уход, Джонни. Американцы должны быть в курсе, что ты ушел. Тогда они будут сидеть и нервничать, ожидая твоего возвращения.
— Здорово, дорогая! Чертовская идея! В смысле, она очень мне нравится!
Элеонор послала ему воздушный поцелуй.
— Какой же ты у меня простодушный! — Она преданно улыбнулась мужу. — Иногда мне кажется, что тебе вообще наплевать, что говорить и о ком говорить.
— А почему мне должно быть не наплевать?
— Ты прав. Конечно.
— Ты чертовски права, что я прав. Как бы это лучше выразиться? Это все равно, как… как… Ну, как если бы мы с тобой были юристами, часто говорю я себе. В смысле, самыми настоящими практикующими юристами. Я работал бы на «передовой», в суде, набирал бы присяжных и скармливал всякую чушь газетчикам, а ты сидела бы в юридической библиотеке, читала дела и говорила мне, что делать. — Он прикончил виски со льдом и протянул пустой стакан жене.
Та налила ему еще и сказала:
— Ох, я согласна с тобой, дорогой, но все же хотелось бы, чтобы ты проникся чувством того, насколько священна твоя миссия.
— К черту! Что на тебя сегодня нашло, малышка? Я похож на доктора, в каком-то смысле. Хочешь, чтобы я умирал с каждым пациентом, которого теряю? Жизнь слишком коротка. — Он взял у нее стакан. — Спасибо, дорогуша…
— Пей на здоровье, милый.
— Что это за дрянь? Яблочная водка?
— Какая яблочная водка? Это бурбон двенадцатилетней выдержки.
— Надо же! А на вкус не скажешь.
— Может, все дело в имбирном пиве?
— В имбирном пиве? Я всегда пью бурбон с имбирным пивом. Как может из-за имбирного пива появиться привкус яблочной водки? Сроду такого не было.
— Ну, тогда не знаю, — ответила жена.
— А-а, какая разница? Яблочная водка мне тоже нравится.
— Знаешь, ты такой милый…
— Ты еще милее.
— Джонни, ты заметил, что некоторые из этих идиотов-газетчиков пишут о тебе всякую гадость?
— Не бери в голову! — Он беззаботно махнул рукой. — Их ремесло очень похоже на наше. Ты становишься слишком чувствительной. Может, парни, которым поручено писать обо мне, и называют себя «Командой тупицы», но что-то я не замечал, чтобы они просили о переводе. Это просто такая игра, понимаешь? Они пытаются уличить меня во лжи, а потом садятся и печатают, что я солгал. Но на самом деле они ничем не отличаются от меня. Стараются нанести мне удар, но сами такие же, как и я. Я тоже стараюсь нанести им удар, но мы пьем вместе, и мы друзья. Какого черта, дорогая? Каждый из нас просто делает свое дело, вот и все. Не надо быть такой чувствительной.
— Джонни, малыш?
— Да, дорогая?
— Сделай мне любезность, завтра по время перерыва на ленч сходи, пожалуйста, в сенатскую парикмахерскую и побрейся. Тебе необходимо бриться дважды в день. Клянусь богом, иногда я думаю, что борода у тебя может отрасти за двадцать минут. Ты похож на барсука из диснеевских мультиков.
— Не тревожься из-за этого, дорогая. У меня своя дорога, и выгляжу я на свой собственный лад, но все равно я самый что ни на есть чертов американец, и все прекрасно понимают это.
— Тем не менее, дорогой, ты обещаешь мне побриться завтра во время перерыва на ленч?
— Конечно. Почему бы и нет? Плесни-ка мне еще. Завтра у меня будет долгий день.
* * *4 ноября 1958 года Джон Йеркес Айзелин был переизбран на второй шестилетний срок, получив самое большое число голосов за всю историю выборов в своем штате. На следующий вечер в пивных, кафе, винных погребках, кантонах, тратториях и различных маленьких ресторанчиках крупных городов Западной Европы имели место двести тридцать незарегистрированных кулачных драк между угрюмыми американскими гражданами и возмущенными, охваченными ужасом местными жителями.
* * *Сидя ранним утром в понедельник в своем офисе в «Дейли пресс» (теперь, став главой отдела, он, как и мистер Гейнес до него, считал своим долгом являться на работу не в десять часов, а в семь тридцать), Реймонд поднял взгляд, слегка раздраженный тем, что его оторвали от работы, и увидел стоящего в дверном проеме Чанджина. Реймонд не помнил, чтобы когда-нибудь видел этого человека — смуглого, хрупкого, с внимательными, влажно поблескивающими глазами и чрезвычайно умным выражением лица. Во взгляде посетителя сквозили надежда и возрастающее с каждым мгновением почтение, но даже эта маленькая хитрость не помогла Реймонду вспомнить его.
— Слу-у-ушаю, — нарочито мерзким тоном протянул он.
— Я Чанджин, мистер Шоу, сэр. Я был переводчиком, прикомандированным к вашей роте, пятьдесят второго полка…
Реймонд ткнул пальцем прямо в нос Чанджину.
— Ты был переводчиком в патруле?
— Да, сэр, мистер Шоу.
Будь на месте Реймонда кто-нибудь другой, может, в нем и вспыхнуло бы чувство былого товарищества, согретое теплыми воспоминаниями о былом, о добрых, старых боевых деньках. Но Реймонд просто спросил:
— Что тебе нужно? — Чанджин удивленно замигал. — В смысле, что ты здесь делаешь?
Это не было попыткой смягчить резкость; просто Реймонд пытался пробиться сквозь очевидную тупость собеседника с помощью более прозрачного синтаксиса.
— А разве ваш отец не говорил вам?
— Мой отец?
— Сенатор Айзелин. Я писал ему…
— Сенатор Айзелин мне не отец. Усвой, по крайней мере, этот факт, если даже больше ничего не вынесешь из визита в нашу страну.
— Я писал сенатору Айзелину. Рассказал ему, как я работал переводчиком в вашей части. Объяснил, что хочу приехать в Америку. Он сделал мне визу. Теперь мне нужна работа.
— Работа?
— Да, сэр, мистер Шоу.
— Друг мой, здесь мы не прибегаем к услугам переводчиков. Здесь мы все говорим на одном языке.
— Я могу портняжничать и ремонтировать все что угодно. Могу готовить. Могу водить машину. Могу убирать мусор и делать любую грязную работу. Могу доставлять сообщения. У меня есть где ночевать — в доме кузена, — и ем я очень мало. Я прошу вас дать мне работу, потому что вы великий человек и спасли мне жизнь. С меня хватит десяти долларов в неделю.
— Десять долларов? За все это?
— Да, сэр, мистер Шоу.
— Но, послушай, Чанджин. Я не могу платить тебе всего десять долларов в неделю.
— Да, сэр. Всего десять долларов в неделю.
— Мне вообще-то нужен слуга. И я не против иметь повара. В смысле, хорошего повара. Терпеть не могу мыть тарелки. Я подумываю обзавестись автомобилем, но меня останавливает вся эта возня с парковкой и прочее. Я дважды в неделю езжу в Вашингтон, и мне осточертело толочься в забитых людьми вагонах. Да, меня устроило бы твое предложение, в особенности, если тебе есть, где ночевать, но, прости, десять долларов в неделю — это низкая плата.
Реймонд произнес все это таким унылым тоном, точно это он искал работу и получил от ворот поворот по вполне обоснованным, разумным причинам.
— Вы могли бы платить мне пятнадцать, сэр.
— Как можно прожить в Нью-Йорке на пятнадцать долларов в неделю?
— Здесь живут мои кузены, сэр.
— И много эти кузены зарабатывают?
— Не знаю, сэр.
— Ну, сожалею, Чанджин, но об этом не может быть и речи.
Реймонд, так и не проявив никаких добрых чувств к старому боевому товарищу, вернулся к работе. Судя по выражению его лица, он считал, что разговор окончен, и торопился заняться отчетами своих бюро и кое-какой поступившей от матери информацией, которая тоже могла пригодиться.
— Вам неприятно платить мне мало, мистер Шоу?
Реймонд медленно повернулся, вынужденный снова переключить внимание на корейца, с раздражением осознав, что не сумел довести до его сознания, что тема закрыта.
— Возможно, мне следовало яснее обозначить свою позицию в этом вопросе, — холодно сказал он. — Есть что-то очень подозрительное в том, что человек соглашается работать за деньги, на которые невозможно прожить.