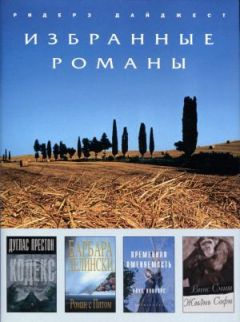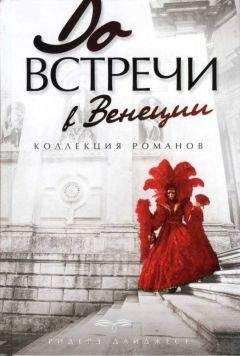Илья Бушмин - Ничейная земля
Катя нашла в себе силы, чтобы встать и вырвать блокнот. Что-то в ее глазах заставило Костю сделать шаг назад.
— Во-первых, больше так не делай. Ты даже не представляешь, как я живу и чем я живу. Ты даже не представляешь, что я вижу каждый день…!
— А кто тебе виноват? — пошел в контратаку Костя. — Я тебе месяц назад говорил про друга, которому юрист нужен в фирму за офигенные бабки! Говорил? Говорил! А ты что сказала? Что тебе не интересно, правильно? Ладно, тебе интересно копаться с трупами и читать всякие протоколы и что там ты еще читаешь. Не вопрос, если нравится! Да только я удовольствия не вижу никакого. Я вижу человека, который загоняет себя, как скаковую лошадь, у которого с памятью творится черт знает что, и все по собственной воле! Но при этом ты еще и требуешь сочувствия! Это мазохизм, что ли, такой?
В этот момент Катю как молнией поразило. Она осознала, что Костя совершенно не в курсе происходящего. Начав встречаться, они как-то договорились, что не будут вникать в подробности работы друг друга. Особенно на этом настаивал Костя, которому не хотелось слышать про допросы, очные ставки и опознания. Но сейчас ситуация была совсем другая. Это личное. Смерть сестры и события в Яме 18-летней давности, которые вернулись в ее жизнь. А Катя даже ни словом не обмолвилась о них человеку, с которым решила связать свою жизнь.
Почему?
Она посмотрела на Костю, застывшего в немом вопросе. Высокий крепкий шатен, симпатичный, даже красивый, с правильными чертами лица… Это неправильно. Костя имел право возмущаться и требовать. Если бы он знал, то…
Но почему она так ничего ему не рассказала?
— Мне надо тебе кое-что рассказать, — произнесла Катя. — Это важно.
— Ну так расскажи!
В этот момент заиграла музыка. Телефон, спрятанный в сумочке Кати, брошенной на столик в прихожей. Виновато улыбнувшись Косте, Катя выскользнула из комнаты и, порывшись в сумке, выудила мобильник. И сердце вздрогнуло. Звонила соседка.
— Теть Зин, здравствуйте! Что-то случилось?
— Катюш, я к Тане пришла, чтобы телевизор вместе посмотреть, посуду помочь помыть заодно — как обычно. А ее нет. Ушла куда-то и все тут! Ночь ведь на дворе! Она не у тебя случаем?
Господи. Пробормотав что-то, Катя отключилась и повернулась к Косте.
— Мать пропала. Мне нужно ехать. Ты… Ты со мной?
Костя заколебался. Было видно, что ему не хочется высовывать носу за дверь. Здесь было сухо, тепло и уютно, а у него в руках была бутылка пива. И в этот момент Катя поняла, в чем дело. Она ничего не рассказывала Косте, руководствуясь чем-то неосознанным, интуитивным, подсознательным. Сейчас она увидела, в чем была загвоздка. И оказалось, что все еще более грустно, чем ей казалось только что.
— Хотя нет… — пробормотала Катя. — Я… Я сама. Так быстрее.
Она подхватила сумочку, сорвала с вешалки непромокаемую ветровку с капюшоном и вылетела из квартиры. Пробежав по лужам до машины, Катя прыгнула за руль и понеслась к матери. Думать о происходящем с Костей и об их будущем сейчас она не могла и не хотела. В голове была только мама.
Катя с облегчением выдохнула, когда свернула в ставший за долгие годы родной двор многоэтажки, и фары ее автомобиля выцепили силуэт матери. Та сидела на мокрой от недавнего, наконец затихшего, дождя скамейке перед подъездом. Почему-то соседним подъездом. Катя притормозила, свернув к обочине, и выскочила из машины.
— Мама? С тобой все в порядке? Мам?
Мама растерянно заулыбалась, увидев Катю.
— Ой, дочка… Это ты. Это действительно ты.
— Ты что тут делаешь? Ты знаешь, сколько время?
— Это ты, — повторяла мама, потянувшись к Кате. Она дотронулась до рук дочери и принялась поглаживать и прощупывать их, будто пыталась убедиться, что перед ней человек из плоти и крови, а не бестелесный дух. — Ты… Как я соскучилась. Я так соскучилась…
Только сейчас Катя разглядела странный блеск в глазах мамы. Словно третий глаз, видящий другие измерения, недоступные простым смертным. Сердце Кати упало. Это был очередной приступ.
— Валя… — жалостливым голосом вопросила мама, а в ее глазах блестел другой мир. — Где ты была, Валя? Почему ты так долго не приходила?
Катя опустилась рядом с матерью. Хотелось плакать, выть, вырвать обеими руками клоки волос из головы. Но Катя не могла даже плакать. Сегодняшний день опустошил ее до основания.
— Зато теперь я здесь, мам, — шмыгнула носом Катя и приобняла за плечи родительницу, провалившуюся в мир воспоминаний и грез о временах, когда все было хорошо. — Теперь я снова здесь.
10
Мама зашипела от боли, отдернув руку от формы для выпечки хлеба. Она обожглась, несмотря на полотенце. Морщась, засунула обожженный палец в рот. Катя встрепенулась:
— Помочь?
— Не надо. Как больно… Приноровиться нужно. Формы-то новые.
Взяв второе полотенце, мама вернулась к духовке и наконец извлекла соединенные в единую конструкцию формы. Шесть емкостей прямоугольной, как у классических хлебных буханок из магазина, формы, над которыми возвышалась, распространяя по летней кухне домика Мазуровых ароматный запах свежеиспеченного хлеба.
— Ну вот. Готово. Сейчас с полчасика постоит, и можно пробовать. Смотрите, какой красивый. Лучше магазинного, а?
Все переменилось слишком резко. Даже Катя, никогда особо не вникавшая в дела родителей, понимала, что хуже становилось с каждым днем. У папы задерживали зарплату. Работяги отправились к начальству, требуя ответов, и услышали: «А что вы хотите? Сейчас нигде нет денег. Не нравится, выход вон там». Маме пока платили исправно, срок в срок, но последнюю зарплату частично выдали продуктами. Денег становилось всем меньше, и приходилось, как выражались в таких случаях родители, «крутиться».
Они и «крутились». Вскладчину с родителями Сергея купили два мешка муки, договорившись на небольшую рассрочку с торговцем с рынка у проспекта Кирсановых. Теперь можно было не покупать хлеб. Мука уходила быстрее, чем ожидали родители, зато экономия была налицо.
Другой бедой был страх, поселившийся на петляющих улочках поселка. Вечером на улицах больше не резвились дети. Не было слышно смеха и топота десятков ног играющей в догонялки, прятки или «войнушку» детворы. Родители просто не выпускали детей, боясь за их жизни. И особенно это касалось девочек и девушек. А вот парни постарше, видя, что творится что-то страшное, причем процесс выходит из-под контроля буквально на глазах, наоборот, стремились на улицу. Объединившись группами по трое-четверо, что-то вроде гражданского патруля, они бродили по вечерам по погруженному в темноту поселку и смотрели волком на любое незнакомое лицо. Жалкая попытка защитить территорию. Жалкая — потому что с каждым днем таких, незнакомых им, лиц вокруг становилось все больше. В Яму переезжали те, кто остался без работы и не мог больше содержать свои квартиры в городе. Беженцы из республик Средней Азии, где после распада Союза условия жизни ухудшались с каждым годом. А также угрюмые короткостриженые мужики с обветренными лицами и наколками на пальцах, руках и плечах, которые говорили странные слова — позже Катя узнала, что это называется «феня» — и с которыми никто не желал связываться.
Теперь Катя, как и многие другие, коротала вечера дома. Она и раньше не пропадала на улицах до ночи, как Валя, например, а сейчас и вовсе оставила всякие попытки скоротать вечерок как-то повеселее. Катя даже не выходила за ворота, чтобы посидеть на лавочке в палисаднике перед их домом. Пару раз пробовала, но каждый раз ей становилось не по себе. Казалось, что кто-то невидимый неотрывно наблюдает за ней. Что такое паранойя, Катя не знала — она просто решила не искушать судьбу, и теперь улицу ей заменил родной огород, а все остальные скудные развлечения, которыми могла заняться юная девушка в таком месте, как Яма, уступили место посиделкам с родителями на летней кухне.
Больше всех переживал папа. Он замкнулся, помрачнел, ощетинился, чувствуя кожей, как над всеми вокруг повисла неизвестная и жуткая угроза. Папа держал топор на виду, у самой двери, чтобы в случае опасности сразу схватиться за него и защищать жену и дочерей. Катя видела, что папа все время думает о смертях, разом изменивших жизнь всех людей вокруг на «до» и «после». Однако он молчал. Лишь курил свои папиросы у окна летней кухни, выходящего во двор их дома, и смотрел в никуда. Когда на улице раздавались громкие голоса или окрики, отец вздрагивал и напрягался, вслушиваясь, а его глаза сами искали стоявший в углу у двери топор. И это было более красноречиво и более пугающе, чем любые слова.
Скрипнула калитка. Папа весь напрягся, словно сжимаясь перед рывком, но, узнав в доносящихся со двора звуках голоса Сергея и Вали, расслабился. И потянулся к папиросе.