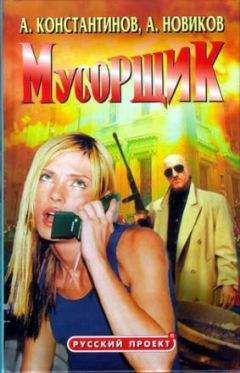Дин Кунц - Ложная память
— Уже несколько недель так не ел, — заявил Скит, набив полный рот курятиной. — Похоже, что ничего так не способствует аппетиту, как прыжок с крыши.
Мальчишка был настолько тощ, что казалось, будто он занимался похуданием сразу по нескольким рецептам для супермоделей и заработал на этом деле булимию[20]. Глядя на него и представляя себе, насколько должен был съежиться его желудок от многодневного голодания, было трудно предположить, что туда может вместиться все то, что он уже поглотил.
Все еще прикидываясь, что вычитывает предзнаменования в облаках, Дасти сказал:
— Ты, похоже, заснул только потому, что я тебе велел.
— Ты что? Знаешь, братец, это что-то новенькое. С этого времени я делаю все, что ты пожелаешь.
— Ну-ну…
— Вот увидишь.
Дасти сунул правую руку в карман джинсов и прикоснулся к сложенным листкам из блокнота, которые нашел в кухне Скита. Он подумал было вновь взяться за выяснение вопроса насчет доктора Ена Ло, но интуиция подсказала ему, что звучание этого имени могло бы спровоцировать еще один приступ ступора, который будет сопровождаться таким же безнадежным бессмысленным диалогом, как тот, что они уже вели здесь. Вместо этого он произнес:
— Легкий порыв.
Как было видно в окне-зеркале, Скит даже не оторвал взгляда от тарелки.
— Что?
— И волны разносят.
На этот раз Скит поднял голову, но ничего не сказал.
— Голубые сосновые иглы, — продолжал Дасти.
— Голубые?
— Это для тебя имеет какой-нибудь смысл? — спросил Дасти, отворачиваясь от окна.
— Сосновые иглы зеленые.
— Я полагаю, что бывают и голубовато-зеленые.
Полностью очистив тарелку, Скит отодвинул ее и взял десертную чашку со свежей клубникой с густыми сливками и желтым сахаром.
— Мне кажется, что я это уже где-то слышал.
— А я так просто уверен в этом. Потому что я услышал это от тебя.
— От меня? — Скит, похоже, искренне удивился. — Когда?
— Раньше. Когда ты был… не в себе.
Неторопливо просмаковав обильно политые сливками ягоды, Скит сказал:
— Это рок. Мне было бы крайне неприятно думать, что в моих генах заложена литературщина.
— Это загадка? — спросил Дасти.
— Загадка? Нет. Это стихи.
— Ты пишешь стихи? — не скрывая недоверия, спросил Дасти. Он хорошо знал, насколько усердно Скит старался избегать любого контакта с тем миром, в котором обитал его отец, профессор литературоведения.
— Это не мои, — ответил Скит. Он как маленький, высунув язык, тщательно слизывал с ложки остатки сливок. — Я не знаю, как зовут поэта. Кто-то из древних японцев. Это хокку. Наверно, я где-нибудь прочел его, а потом оно прилипло.
— Хокку, — повторил Дасти, безуспешно пытаясь найти полезное значение этой новой информации.
Размахивая ложкой, словно дирижерской палочкой, Скит, тщательно расставляя ударения, продекламировал:
Легкий порыв —
И волны разносят
Голубые сосновые иглы.
Обретя связи между собой, ударения и размер, эти восемь слов уже не воспринимались как бессмысленная тарабарщина.
На память Дасти вдруг пришла картинка с оптической иллюзией, которую он как-то, много лет назад, увидел в журнале. Это был карандашный рисунок, изображавший плотно сомкнувшиеся ряды деревьев — сосны, ели, березы, осины, — высокие, мощные, похожие друг на друга, и все это было озаглавлено «Лес». Пояснительная надпись утверждала, что эта лесистая местность скрывала более сложную сцену, которую можно было разглядеть, отрешившись от предвзятости, заставив себя забыть слово «лес» и исхитрившись посмотреть сквозь лежащий на поверхностности образ на другую панораму, очень сильно отличающуюся от изображения леса. Были люди, которым, для того чтобы постигнуть второе, потаенное изображение, требовалось лишь несколько минут, тогда как другие бились над разгадкой больше часа. Безуспешно вглядываясь в картинку на протяжении десяти минут, Дасти в конце концов отодвинул журнал — и тогда краешком глаза увидел спрятанный город. Когда же потом он снова прямо посмотрел на рисунок, то увидел большой столичный город в готическом стиле, где каменные дома теснили друг друга; темные лесные тропинки между стволами деревьев превратились в узкие улицы, погруженные в глубокий полумрак, стиснутые рукотворными холодными серыми скалами, вздымавшимися к суровому небу.
Точно так же и эти восемь слов обрели новое значение в тот же миг, когда Дасти услышал их как хокку. Образ, созданный поэтом, был совершенно ясным. «Легкий порыв» — это дуновение ветра, срывающего сосновые иглы с деревьев и бросающего их в море. Это было точное и пробуждающее воспоминания наблюдение из жизни природы, которое, если вдуматься, конечно же, обладает многочисленными метафорическими значениями, подходящими для того или иного состояния человека.
Поэтический образ, однако, не был единственным значением, которое можно было найти в этих трех коротких строчках. У них имелась и другая интерпретация, которая была чрезвычайно важна для Скита, когда он пребывал в своем непонятном трансе, но теперь он, казалось, забыл об этом. Тогда он назвал каждую строчку правилом, хотя он не мог внятно объяснить, какое поведение, действие или игру эти загадочные правила определяли.
Дасти подумал, не присесть ли ему на краешек кровати брата и продолжить расспросы. Однако его сдерживало опасение того, что Скит под нажимом мог снова отступить в свое полукататоническое состояние и уже не выйти из него так же легко, как в первый раз.
Кроме того, они оба провели тяжелый день. Скит, несмотря на то что поспал и рано пообедал, вероятно, чувствовал себя почти таким же усталым, как и Дасти, который ощущал себя так, словно его выстирали, прокипятили и выжали.
* * *
Лопата.
Кирка.
Топор.
Молотки, отвертки, пилы, сверла, плоскогубцы, ключи, целая горсть длинных стальных гвоздей.
Хотя кухня еще не превратилась в совершенно безопасное место, да и другие комнаты в доме необходимо было тоже осмотреть и очистить, Марти не могла перестать думать о гараже, мысленно перечисляя многочисленные орудия пытки и убийства, которые находились в нем.
В конце концов она оказалась не в силах придерживаться своего твердого решения не входить в гараж и избегать риска находиться там, среди его острых соблазнов до тех пор, пока Дасти рано или поздно не вернется домой. Она открыла дверь из кухни, нащупала выключатель и зажгла люминесцентные лампы на потолке.
Как только Марти перешагнула через порог, ей в глаза бросился щит, на котором был укреплен набор садовых инструментов, о которых она совершенно забыла. Совки и лопатки. Ножницы, большая лопата. Секатор с пружиной и лезвиями, покрытыми тефлоном. Электрическая машинка на батарейках для подрезки живых изгородей.
Кривой садовый нож.
* * *
Скит с шумом возил ложкой по десертной чашке, выскребая из нее последние следы сливок и сахара.
И, словно на звук ложки, постукивавшей по фаянсу, явилась новая сиделка, которой предстояло наблюдать за Скитом ночью. Ее звали Жасмина Эрнандес, миниатюрная, хорошенькая для своих тридцати с небольшим лет, с глазами цвета иссиня-черной сливы. В ее облике сочетались таинственность и чистота. Ее униформа сияла белизной и свежестью, и при этом она казалась воплощением профессионализма, хотя красные тапочки с зелеными шнурками намекали — и не без основания, как это выяснилось почти сразу же — на некоторую игривость характера.
— Ой, какая же вы маленькая, — воскликнул, увидев ее, Скит и подмигнул Дасти. — Жасмина, я не представляю, как вы сможете остановить меня, если я попытаюсь покончить с собой.
Сиделка отцепила поднос от кровати, поставила его на тумбочку и серьезно ответила:
— Послушайте, стрекотунчик, если для того, чтобы уберечь вас от подобного поступка, потребуется переломать вам все кости и с головы до пят запеленать в гипс, то я смогу это сделать.
— Святое дерьмо, — воскликнул Скит, — где вы учились медицине — в Трансильвании?
— Еще хуже. Меня учили монахини из ордена Сестер Милосердных. И предупреждаю вас, стрекотунчик, что я не потерплю никаких ругательств во время моего дежурства.
— Простите, — сказал Скит с искренним раскаянием. Но ему все же хотелось еще поддразнить свою опекуншу. — А что делать, если мне нужно будет пойти пи-пи?
Жасмина, потрепывая уши Валета, заверила:
— У вас не может быть ничего такого, что мне не приходилось бы уже видеть, хотя уверена, что я видела кое-что побольше.
Дасти улыбнулся Скиту.
— Ты, пожалуй, правильно поступишь, если теперь будешь говорить только: «Да, мэм».
— А что значит «стрекотунчик»? — поинтересовался Скит. — Вы же не станете давать мне дурных прозвищ, не так ли?