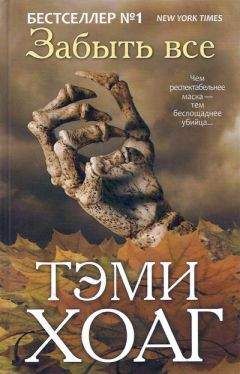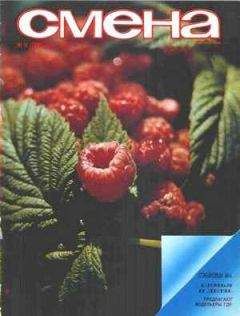Гюнтер Вейзенборн - Преследователь
— Вы сами знаете, что при словах «изменять, улучшать мир» у почтенных обывателей глаза на лоб лезут.
— Глупость не довод.
— Ну нет, глупость — довод, и даже сокрушительный, если ею охвачены массы.
Некоторое время мы молча переставляли фигуры. Он захватил инициативу и нажимал на королевский фланг. Я отбивался.
Внезапно он остановился и посмотрел на меня.
— Тише, тише, дружок, побольше выдержки. Прежде чем сделать этот ход, вы обдумали все варианты?
— Конечно, нет.
— Не способны?
— Нет. Даже гроссмейстеры не в состоянии учесть все возможности.
— Итак, по-вашему, каждая шахматная партия таит в себе необозримое количество возможностей?
— Конечно. Все знатоки разделяют это мнение.
— Ага, — сердито проворчал он и выпустил мне в лицо целое облако сигарного дыма.
И вдруг понизил голос:
— А между тем вы осмеливаетесь утверждать, что вину можно обозреть вплоть до мельчайших разветвлений. Конечно, за каждым движением руки стоят побудительные мотивы, особенно когда человек поднимает руку на другого человека. И эти побудительные мотивы проистекают из темного источника, в котором слиты воедино пережитое, страх, самозащита, ужас, надежда и умысел. Кто вздумает проследить вину до мельчайших ее истоков, тот забредет в дебри первобытных импульсов. А возмездие, голубчик, — это топорик первооткрывателя, который задумал выкорчевать первобытную чащобу вины. Чего вы добьетесь своим топориком?
' Я его недооценивал. Мне он представлялся увертливым ловкачом из числа деятелей послевоенной юстиции, которого ничем не проймешь и не удивишь. А передо мной сидел вдумчивый шахматист, заглянувший в самые недра безнадежности и дошедший в ней до беспечного цинизма.
Мы произвели рокировку, после чего он стал настойчиво продвигать пешку. При этом он непрерывно говорил вполголоса отрывочными фразами, как будто они возникали случайно и непреднамеренно.
— Чего вы хотите? Устроить погоню за нацистом или прихвостнем нацистов? Ну хорошо, за шпиком… Вам приспичило выудить из пруда мелкую рыбешку. Если вам угодно взять этот труд на себя, сделайте одолжение, я не возражаю. Кстати, этот субъект был офицером?
— Кажется, нет. А разве это так важно?
— Как сказать! Кем были мы — адвокаты и судьи? Офицерами. Кем становились отборные нацисты? Офицерами. Кем были директора заводов, профессора, преподаватели и чиновники? Офицерами. Поэтому, выступая на суде, я обычно говорю как бывший офицер с бывшим офицером, да и кассационная инстанция состоит по большей части из бывших офицеров. Здесь все одинаковое — язык, ордена, привычки, застольные тосты: «Ваше здоровье, господа!»; манеры: «Рад служить, сударыня!»; да и реакция обычно одинаковая на такие слова, как «саботаж», «государственная измена» или «идет его превосходительство».
— А серой скотинке навечно отведено место на скамье подсудимых, — ввернул я.
— Или среди присяжных.
— Можно насчитать немало судей другого сорта.
— Конечно, но я ведь имею сейчас в виду не арифметику, а живых людей. Допустим, является эдакий червяк и требует примерно наказать члена национал-социалистской партии за то, что он донес на «государственных изменников». Недалеко уйдет ваш червяк. Скажем прямо — если у него хватит волн, он чего-то добьется. Но вам-то никогда в жизни не удастся припереть вашего шпика к стенке. Вам обстоятельства не благоприятствуют, ибо все такие типы давно успели обезопасить себя. Они либо служат в тайной полиции, либо подвизаются в безымянных международных организациях, и начальство их всячески покрывает.
— Это я заметил.
— Знаете, я до глубины души умиляюсь всякий раз, когда смотрю, как такой вот свалившийся с луны христосик устраивает погоню за нацистом. Да разве в нашем благословенном отечестве кто-нибудь может угадать, кто завтра будет гонимым, а кто гонителем? Что вы скажете, если этот самый шпик завтра повернется и организует погоню за вами, потому что вы для него помеха? Неужели вы не заметили, что у нас повсеместно утверждается правило: не знать, не видеть, не слышать и не говорить! Еще водятся у нас на западе такие упорные чудаки, которые позволяют себе злобствовать и брюзжать, но — «подожди немного, усмирят и их».
Он объявил открытый шах.
Я защитился ладьей.
В ответ он сделал рискованный ход ферзем.
— Шах и гарде, — сказал я.
Он сдался. Он слишком много говорил, а я тем временем обдумывал ходы. Он рассмеялся и подвинул ко мне свои фигуры.
— И тем не менее прав я. Как это, бишь, у старика Лютера? «Монашек, на трудный вступаешь ты путь…»
— Знаю…
— Больше не скажу ни слова, — пообещал он и молча склонился над шахматной доской. У него был массивный круглый череп с рыжеватым пушком вокруг плеши.
Партия была серьезная, и я проиграл.
— Кроме того, — подхватил он свою мысль, словно не было часового перерыва, — кроме того, у вашего шпика интересно совсем другое. Как повел бы себя во время войны англичанин или американец, если бы заметил, что какая-то подпольная группа подрывает боевую мощь государства? По всей вероятности, поспешил бы донести на нее.
— В том случае, если он сторонник правительства.
— Мне важно другое: должен ли человек исполнять свой долг, когда его народ воюет?
— Все зависит от того, что за народ, что за правительство и за что они воюют.
— Кто может это решить?
— Каждый для себя.
— А кто еще?
— Ну, народ как таковой.
— Отлично. Наш народ в большинстве своем в тот период был на стороне нацизма, недаром же он до nç-следней минуты сражался за Гитлера. Гитлер уверил его, что судьба нацизма и судьба немецкого народа едины.
— Вы хотите сказать, что шпик действовал по убеждению, да?
— Возможно. Возможно, что он исполнял свой долг. Надо признать — несладкий долг. Где же начинается его вина и где она кончается? Кто кинет в него пресловутый камень?
Он допил пиво, пытливо вглядываясь мне в лицо близорукими глазами.
Его дыхание, пропитанное пивными парами, поднималось ко мне от шахматной доски.
— Теперь я понимаю, почему вы не давали хода моему делу, — ответил я.
— Вы все еще переоцениваете свои возможности.
— Думаю, вам ясно, что я беру назад свое заявление.
— Конечно, я и сам хотел вам это предложить.
Мы еще несколько мгновений посидели друг против друга, он — грузный, но гибкий, я — тощий, но непреклонный. Холодно смотрели мы друг на друга. Обоим стало ясно, что нас разделяют миры. Он был из числа тех миллионов, что, обеспечив себя надежной защитой, ловко лавируют среди треволнений нашей эпохи. Я же принадлежал к той ничем не защищенной оппозиции, которая верит в изменяемость мира.
Между нами незримым призраком стоял Пауль Ридель. Несколько гераней на подоконниках из сил выбивались, стараясь своими красными соцветиями придать уют унылой, прокуренной пивнушке. Дородный средневековый ратман, ухмыляясь, подносил ко рту кружку пива на рекламе пивоваренного завода. Серая кошка спала, свернувшись клубком на телефонной книжке. За стойкой хозяин шумно полоскал стаканы.
Я смотрел прямо в лицо М. Внутри у меня все окаменело. Мне вдруг стало совершенно ясно, что этот самый М… даже глазом не моргнув, вынес бы «Серебряной шестерке» смертный приговор. Может, он в свое время участвовал в чрезвычайных судах? Может, сейчас это была речь в собственную защиту?
Я протянул руку и одну за другой повалил шахматные фигуры.
— Вечный шах, — сказал я, — мат впереди.
Я подозвал Эдуарда и расплатился.
М. жевал свою сигару.
Эдуард взял деньги. Он наблюдал наш спор и, опуская монеты в карман грязной куртки, заметил:
— Господа хорошие, а где же юмор? Я бы тут на месте умер, если бы не спас меня мой юмор!
Он взирал на нас с мрачной миной. Его сероватый нос пуговкой был испещрен синими жилками.
Из задней комнаты раздался окрик:
— Эдуард, кружку пильзенского!
— Перестань болтать, Эдуард! — рявкнул хозяин из-за стойки, Когда он вынул из лохани свои мокрые до локтя руки, они напомнили мне вяленые окорока. Он потер ими нос, стараясь не замочить его.
— Итак, вот что я вам еще скажу… — начал адвокат, положил сигару в пепельницу и посмотрел на меня.
— Прощайте, — сказал я и ушел из пивнушки.
На следующий вечер я поехал в «Аскону» — поставил машину в соседнем переулке, внимательно оглядев ее стальной нос. Я колебался, не сесть ли мне в нее и не уехать ли отсюда. Я чувствовал, что плохо владею своими нервами. И все-таки я решил пойти в бар.
Еще из вестибюля услышал я его игру, знакомую мне слащавую мягкость удара и злоупотребление педалью.
Бар был относительно большой и состоял из двух зал, расположенных под прямым углом; рояль стоял на стыке между ними. Я увидел Риделя в третий раз после войны, и он сразу же меня узнал. Он сидел за роялем и играл пьесу в медленном темпе. Valse triste [5]. Играл он с прежним мастерством. Я заметил, как он, зажав сигарету в углу рта, украдкой покосился на меня.