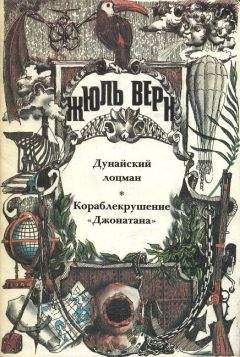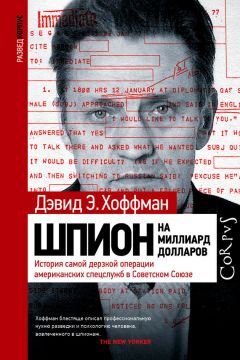Валентин Ерашов - Убийцы в белых халатах, или как Сталин готовил еврейский погром
Вопрос был — каковы основные формы феодальной земельной ренты… Ничего сложного в нем не заключалось, если бы Сергей сдавал политэкономию, но тут, на истории, вопрос был неожиданным, Сергей был застигнут врасплох, психологически не подготовлен, замялся, ответил без прежней уверенной четкости и, кажется, перечислил не в той последовательности, что у Маркса. Дальше посыпались подряд, вразброс, скороговоркой: что такое сфрагистика; в каком году родился и когда умер историк Соловьев; чем отличается гемма от камеи; являются ли волжские булгары этническими предшественниками казанских татар; кто из композиторов входил в состав «Могучей кучки»… На большинство этих вопросов в спокойной обстановке Сережка ответил бы, но Башуев не оставлял и минуты на раздумье, выпалит очередной вопрос и тут же медленно фиксирует: не знаете… Сережка вспылил и сказал громко: «Хорошо, профессор, допустим, этого я не знаю. Прошу выставить отметку». И подумал: черт с ним, пускай четверка, пускай тройка, не все ли едино.
Башуев кивнул, вывел в листке оценку, и, не глянув на бумажку, Сергей вышел. В коридоре кинулись — подслушивали, как водится, — стали обнимать: ну, молодец, Серега, ну, ты и давал! Зачетный листок он держал, развернув, и вдруг — тишина.
Двойка, сказал девчоночий голос.
Ахали, охали, советовали немедленно мчать к декану, уже кто-то выделял делегацию, а один из фронтовиков уговаривал съездить Башуеву по морде… Ладно, сказал Сергей, отставить, сам разберусь.
Он посидел в скверике на Моховой, перед памятником Герцену и Огареву, покурил, покумекал, отправился в деканат. В приемной сидела секретарша — в гимнастерочке, тщательно отутюженной, с «Отечественной» II степени, позвякивали медали, в том числе и «За освобождение Праги», как и у него. Сразу нашли общий язык — выяснилось, что воевали в одном корпусе, она — радисткой, перешли на «ты», рассказал, что случилось. «Постой-постой, — сказала Тоня, вглядываясь в лицо. — Ты по национальности — кто?» — «Мул, — отшутился он, — помесь лошади с ишаком». — «Я серьезно». — «Полурусский, полуеврей, советский мулат, так сказать». — «А в паспорте?» — «Еврей». — «Ну и дурак», — сказала она, открыла папку, взяла верхнюю бумагу, протянула Сережке. То была зачетная ведомость их группы, уже утвержденная деканом.
Сверху гриф: «Не подлежит оглашению». Кроме обычных колонок — фамилия, год рождения, партийность, отметка — оказались и другие: социальное происхождение, национальность, участие в Великой Отечественной войне… Фамилий числилось тридцать шесть, и в графе «национальность» у четверых было подчеркнуто — еврей. И у каждого из четырех — по нескольку троек, значит, не проходили по конкурсу. У него, единственного фронтовика-еврея, — красовалась пара, ибо тройки, чтобы завалить его, было недостаточно.
Не поблагодарив Тоню, не попрощавшись, он выскочил, заметался опустелыми коридорами, перебегал с этажа на этаж, мелькали двери, колонны, стенные газеты, доски приказов, стеклянные, с золотыми буквами таблички; коридоры, коридоры, то прямые, то изломанные, тускло освещенные редкими — рабочий день кончился — лампочками. Руки тосковали по автомату, надежному, с дисковым магазином на семьдесят патронов, родному «ППШ», прижать бы его, как делали фрицы, к животу, пустить непрерывную очередь наугад — по мраморным колоннам, окошкам, стеклянным табличкам, вдоль пустых, длинных, то прямых, то изломанных коридоров — Сережка матерился молча, бессмысленно, грязно, как матерился только в атаках… Перепуганная какая-то девчонка от него шарахнулась.
Перед комнатой парткома, обнаруженной случайно, остановился, покурил, подумал, постучался.
Секретарь — лет тридцати пяти, с двумя рядами орденских планок на гражданском пиджаке — свой! И, веря в справедливость Партии, любого ее представителя, веря в солдатское братство и взаимопонимание, Сергей четко представился, вынул партбилет с особым почетным стажем — принимали на Курской дуге — секретарь посмотрел, сказал по-фронтовому, на «ты»: «Садись. Чего такой дерганый, солдат?» И Сережка выложил все, что было, утаив лишь, что ведомость показала Тоня, соврал, будто увидел на экзаменаторском столе, случайно Башуевым не прикрытую.
— Секретарь побарабанил пальцами, хмыкнул, предложил закурить, и, обескураженный его молчанием, Сергей подумал, что говорил недостаточно убедительно, свел к личной обиде, тогда как следовало сказать о несправедливости, о вредности, о противоречии со Сталинской Конституцией, он это и выложил теперь секретарю, тот сказал: «Боевой ты парень. И эрудированный. Давай только митингов тут не устраивать и обобщениям не предаваться. Насчет тебя сделаю что могу. Нам такие ребята нужны. Общее решение — не в моей власти. И не декана. И не ректора… Телефон имеешь? Записываю… Позвоню. Умеешь ждать? Вот и жди. Носа не вешай, солдат».
Он позвонил через три недели, тридцать первого августа, накануне учебного года. Экзаменовали вымотанного Сережку трое: декан исторического факультета, секретарь парткома (по специальности, выяснилось, философ) и незнакомый доцент-историк. Сергея попросили удалиться, позвали минут через десять, декан сказал: «Вы сегодня отвечали на твердую пятерку, но, учитывая результат предыдущего экзамена… В общем, вы зачислены».
…А сегодня, два с половиною года спустя, тот же секретарь обращался к студенту третьего курса Холмогорову на «вы», говорил официально, напористо, загодя отвергая любые возражения, и Сергей, старший сержант запаса, зная теперь, что секретарь имел звание майора — воинская же субординация долго не выветривается после демобилизации, — понимая, чем грозит ему, студенту-коммунисту, да еще вдобавок полуеврею Холмогорову, и сам отказ, и тон, каким этот свой отказ он произнесет, сказал: «Давай бумагу. Я тебе напишу… Не речь, а объяснение — как я тебя послал…» И спокойно, внятно пояснил, куда послал.
Секретарь не заорал, не бухнул кулаком по столу. Он пожевал папироску, поднялся, положил руку ему на плечо. «Иди, Сережа. Ты у меня — не был, я тебя — не видел, разговора никакого не происходило».
Он рассказывал Соне уже поздно вечером, на скамейке Бауманского скверика, возле дома; Соня плакала — от всего, что происходило вот уже четыре года, начиная с января сорок девятого, и от собственного поступка с рюкзаками — их редко покупали, продавщица могла запомнить — и от страха за Сережку — мало ли чего сказал секретарь, кроме него ведь есть и другие, с кем могли кандидатуру Холмогорова согласовать, и от ужаса за папу, за маму, за брата Гену и жену его, Белку, и от жалости к нерожденному своему ребенку… Она плакала и гордилась мужем, Сергеем, настоящим мужчиной, и целовала его, и спрашивала, будто бы он мог ответить, спрашивала: что же будет, Сережа, что будет со всеми нами?
«Как ты додумалась, почему пришло в голову насчет рюкзаков?» — запоздало удивился он. «Не знаю, не знаю, — отвечала Соня, — словно прозрение какое…»
Да, походило на прозрение, вспышку, наитие, думал Сергей, лежа рядом с уснувшей наконец Соней, он держал руку на твердой, желанной груди, и, когда отнимал руку, чтобы закурить, Соня бормотала: «Куда ты? Обними меня», — и он послушно клал осторожную ладонь обратно, а курить ему хотелось невтерпеж…
Слухи ползли, клубились, змеились по Москве, где жили, по Сережкиным сведениям, около двухсот тысяч евреев, да, прикидывал он, примерно столько же причастных: полукровок, вроде него; иноплеменных супругов; кроме того, причастными были, разумеется, и отнюдь не принадлежащие к племени иудейскому просто порядочные, искренне сочувствующие интеллигенты, кого больно затрагивало происходящее… Значит, будем считать, минимум полмиллиона, десятая часть населения столицы… И они собирались «не более двоих», как гласила печально-ироническая заповедь, встречались по возможности не в квартирах, где могли подслушать, а на бульварах, в лесу на лыжных прогулках — шушукались, обговаривали, предполагали, пугались, ерепенились, дома писали бессмысленные, опасные письма и рвали в клочья, они преувеличивали, преуменьшали, успокаивали и пугали себя, теряли веру окончательно и робко ее обретали, а то лишь старались делать вид, будто веру обрели… Слухи клубились, множились, дробились, обрастали подробностями, похожими на реальность и заведомо фантастическими.
Записанный в паспорте, по собственной воле, в память мамы, евреем (не придавал тому никакого значения), Сергей Холмогоров ощущал себя русским и про соплеменников покойной матери говорил — они. Но теперь он говорил — и думал — мы, и поскольку это значило «мы с Соней», и от протеста, и от солидарности и готовности разделить их, своюсудьбу, многовековую судьбу гонимых, униженных, распятых, врожденно покорных неумолимой судьбе и столь же врожденно гордых своей судьбой, своей историей, своим народом… «Живем для шуток и насмешек гоев», — вспомнил он…