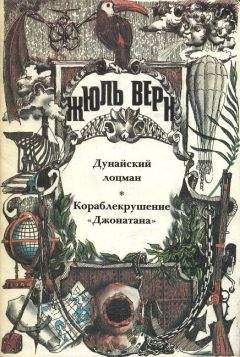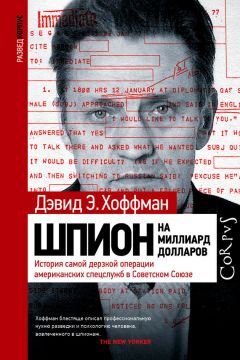Валентин Ерашов - Убийцы в белых халатах, или как Сталин готовил еврейский погром
Суламифь Лифшиц взяла без спросу из маминой сумочки хозяйственные деньги и на Спартаковской, напротив Елоховского собора, в магазине «Спортивные товары» покупала сразу четыре рюкзака. Она боялась, что продавцы удивятся такому количеству, и робко объяснила, что готовятся группой к восхождению на пик Сталина; продавщице было безразлично, она и глядеть не хотела на эту жидовку.
Товарищ Сталин занимался текущими делами в Кремле, но мысли его то и дело отвлекались на главное.
Глава XXIV
Да, Сталин был непредсказуем, и чем старше становился он, тем чаще его поступки делались алогичны. Отмена открытого процесса, по мнению Берии, служила одним из ярких тому доказательств. За этой отменой могли последовать черт знает какие действия, и умный, хитрый, осторожный Берия быстро сообразил: надо быть готовым ради себя в случае нового сталинского выверта немедленно выложить на стол козырные карты, предвосхитить события, подставить другого, и, конечно, подставить не пешку, не шестерку, а короля или туза.
Косым, скользким почерком, тщательно обкатав каждую фразу в голове, он писал…
…Видных советских врачей обвинили незаконно, их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных в СССР приемов следствия. Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным ими следственным делом пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии чувства национальной вражды. В этих провокационных целях авантюристы и подлинные враги народа типа Рюмина не останавливались перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено, что таким образом был оклеветан, убит и снова оклеветан честный общественный деятель, народный артист СССР Соломон Михоэлс.
Закончив это Правительственное сообщение, он подумал: а ведь с Михоэлсом незачем было комедию ломать, вполне спокойно прикончили бы здесь, без всяких инсценировок автомобильной катастрофы в Минске… Но игра есть игра, она щекотала нервы, увлекала, заставляла работать воображение.
Так же быстро сочинил он авансом информацию о том, что Рюмин и его ближайшие сообщники, авантюристы и провокаторы, расстреляны по приговору Особого присутствия Военной коллегии Верховного Суда СССР.
Подумал: чего-то не хватает… А, вот… Проект указа о лишении пособницы Рюмина провокатора Лидии Федосеевны Тимашук ордена Ленина…
Кажется, все.
Он вызвал личную машинистку (ей присвоено было звание капитана госбезопасности, а ради полной надежности Берия сделал ее своей любовницей). Здесь же, в его кабинете, в уголке, где стояла машинка, документы с пулеметной скоростью без единой помарки были перепечатаны в двух экземплярах, черновики сожжены в камине, бумаги спрятаны в потайной сейф.
Теперь беспокоиться особо не приходилось: прояви Коба недовольство, выкинь он какой-нибудь фортель — ахнуть не успеет, как перед ним лягут документы, свидетельствующие о прозорливости Берии…
Никакого фортеля с заседанием суда не было, просто Он испугался своей же собственной идеи насчет цирка, народу соберется туча, возможны провокации, амфитеатр и арена цирка особенно предрасполагают. Да и вообще напрасно он с самого начала подал мысль об открытом процессе, ведь сам себе дал зарок в тридцать восьмом — со спектаклями этими надо кончать, тут всегда возможны накладки; нет нужды разводить тягомотину на процессах, когда под рукой скорострельные тройки ОСО…
Зато сейчас он устроит зрелище невиданное.
Глава XXV
Жаль, конечно, сказал секретарь университетского парткома, что имя, отчество и фамилия у вас не слишком выразительны для такого случая, но мы найдем способ ненавязчиво и в то же время определенно подчеркнуть вашу национальную принадлежность; поймите, Сергей, это важно, и выступить вы обязаны, нельзя давать пищу для выпадов об антисемитизме… Разумеется, выступит и кто-то из русских, но митинг начнем вашей, Сергей, речью. Конечно, у нас есть и явные, в отличие от вас, евреи, но — школяры, мальчишки, а вы человек зрелый, авторитетный, фронтовик, орденоносец, коммунист, и мы настоятельно просим вас к вечеру представить в партком полный текст вашего выступления, кратко, минуты на три, как перед боем бывало, больше гнева, не сдерживайте себя, покажите искреннее свое негодование, я отлично помню, как вы тогда прекрасно и гневно говорили, я любовался вами…
Хорошо сделал, что поддержал его, думал секретарь, теперь за добро заплатит добром, сделает как надо, поймет правильно, бывший комсорг в армии, фронтовик…
Секретарь не был ни добряк, ни провидец, он в той истории Сергея не пожалел и не задумывался, для чего и когда мог Холмогоров пригодиться, но секретарь в обстановке разбирался и предполагал, что пригодиться — может…
Демобилизовался наконец в марте пятидесятого, блаженствовал два месяца — молодая жаркая любовь, раскованность, свобода после семи лет службы, солнечная любимая Москва, счастливое безделье, встречи с однокашниками — уцелело их немного — холостяцкие попойки… А после засел за учебники, выбрав юридический факультет: ему представлялось, что теперь, когда фашисты разгромлены, их, фронтовиков, благородный долг драться беспощадно и яростно со всяческой своей уже мразью.
В нем причудливо сочетались вера с неверием, ранняя возмужалость много испытавшего человека с мальчишеским романтизмом, осознание партийного долга с критическим взглядом на окружающее. Там, в послевоенном отдаленном гарнизоне, судить о жизни мог только по газетам, радио, отчасти — по длинным, но сдержанным, с намеками письмам Сони. Конечно, догадывался он о многом, но понимал далеко не все. Газетам верил, а если что-то и представлялось ему натянутым, притянутым, преувеличенным, относил за счет недомыслия, перегибов со стороны журналистов и редакций. Письмам Сони верил, конечно, тоже, однако знал ее склонность к эмоциям… Он вернулся в гражданскую жизнь, не будучи ни ортодоксом, ни, если так подходяще выразиться, нигилистом. После окопных и казарменных лет жизнь предстала перед ним прекрасной, и он, понимая Соню, жалея, сочувствуя, все-таки вполне искренне убеждал: брось, это цепь случайностей и не вечны для тебя эти пластмассовые художественные пуговицы, эта шарашкина артель; все начинают с работы малой и далеко не всегда интересной, увидишь — образуется… Соня хотела верить и поверила.
Никакого конкурса для фронтовиков в вузах не существовало, достаточно было — даже с натяжкой — заработать «государственную отметку», трояк. На трояки Сережка мог бы сдать запросто — в армии окончил вечерний Университет марксизма-ленинизма, кое-что проштудировал самостоятельно по институтской программе. Но хотелось блеснуть, уселся за учебники, зубрил, как прилежный школяр. Сочинение, устные по литературе, по русскому и по немецкому заслуженно увенчались пятерками, в группе удивлялись, завидовали — большинство демобилизованных поотвыкли от учения, перезабыли программу, им делали поблажки, надеясь обрести в их лице усердных студентов, притом в большинстве — коммунистов, а через пять лет — и юристов с жизненным опытом, особенно важным, поскольку их можно было направлять в прокуратуру, куда воздерживались назначать юнцов.
Последней сдавали историю, билет Сережа вытянул простенький — вероятно, ему показался бы простым и любой другой, программу он знал по Университету марксизма — и, бегло взглянув и слегка пижоня, попросил разрешения отвечать сразу, без подготовки. В аудитории зашептались (к ответам готовились несколько человек), а экзаменатор, говорили, весьма либеральный, профессор Башуев — медлительный, грузный, увенчанный, как лаврами, благородной сединой — посмотрел то ли одобрительно, то ли недоуменно, стекла профессорских очков скрадывали выражение глаз.
На экзамены, как и прочие фронтовики, Сергей явился в гимнастерке, с орденами и медалями: Красная Звезда, Слава 3-й степени; почетнейшая, боевая, только в окопах получаемая «За отвагу»… Форму надевали не ради поблажек, а гордясь боевым прошлым, отчасти хвастаясь перед девчонками, мальчишками со школьной скамеечки, даже преподавателями — не все из них воевали, а тех, кто воевал, объединяло с будущими студентами чувство, кратко именуемое солдатским братством.
Судя по всем трем наградным планочкам, профессор Башуев фронта миновал — Сергей испытал некое превосходство перед экзаменатором, а уверенности в себе не занимать, и, не барабаня, будто отличник, но спокойно, рассудительно, без запинок ответил на билет и уже привычно протянул зачетный листок, понимая: последняя пятерка обеспечена.
Профессор переместил очки на лоб, внимательно всмотрелся в зачетный листок, вернул окуляры на место, поглядел на Сергея, будто следователь, идентифицируя личность, покосился в какую-то бумагу и вместо того, чтобы вывести законную пятерку, задал дополнительный вопрос…