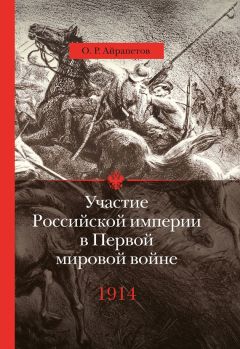Патрик Макграт - Паук
Выброшенный на берег Паучок лежал, скрестив ноги, на кровати и смотрел, как дым от цигарки поднимается тонкой струйкой, превращается в завитки и исчезает. Думал о своей веревке в камине и знал, что эта его мучительная джига, джига в аду, уже почти кончена; хватит, бормотал он в тишине, хватит, хватит, хватит.
Когда я после завтрака вышел из кухни, доктор Макнотен был в кабинете миссис Уилкинсон.
— Господи, что это с тобой? — воскликнул он при моем появлении. — Садись!
Я сел. Он, хмурясь, воззрился на меня, потом подошел к двери и громко позвал миссис Уилкинсон.
— Этого человека лишили лекарств? — спросил он, не потрудившись понизить голос.
— Нет, конечно, — негромко ответила миссис Уилкинсон и отвела его от двери, чтобы я не слышал их разговора. Через несколько минут доктор вернулся ко мне.
— Деннис, — сказал он, — думаю, ты припрятывал лекарства. Скажи мне честно: да?
Какое теперь это имело значение? Усталый Паучок со вздохом пожал плечами. Доктор нахмурился, подошел к окну и встал спиной ко мне; одну руку он держал в кармане брюк, пальцами другой постукивал по подоконнику. Тишина; через несколько минут дверь открывается. Появляется миссис Уилкинсон. Подходит к столу и высыпает на него с десяток испачканных сажей таблеток; в руке у нее моя веревка, ее она тоже кладет на стол. Я распрямляюсь, испуганно вздрогнув: где моя тетрадь? Доктор Макнотен смотрит на меня, покачивая головой, и говорит:
— Спасибо, миссис Уилкинсон.
Возвращается к окну и вновь встает спиной ко мне, глядя наружу. В конце концов, не поворачиваясь, подает голос.
— Я почти уверен, что нужно отправить тебя обратно, — говорит он, — но хочу предоставить тебе последнюю возможность.
Возвратясь в свою комнату, я с громадным облегчением обнаружил, что тетрадь на месте. Обратно в Гэндерхилл меня не отправят; у доктора Макнотена есть несколько причин для такого решения, одна из них заключается в том, что я, пока не перестал принимать лекарства, определенно «прогрессировал». К чему, он не сказал.
Даже когда человеку нечего назвать своим, он находит способы приобретать какие-то пожитки; а затем способы прятать их от санитаров. В жесткоскамеечном отделении мы привязывали один конец бечевки к брючному ремню, а другой — к верхней части носка, потом опускали носок в брюки. Хранили в носках табак, принадлежности для шитья, карандаши и бумагу, еще куски бечевки — все это было полезным или ценным. Люди привязывались к своим носкам: жизнь в жесткоскамеечном отделении шла убого, и это был способ как-то обогатить ее, почувствовать себя хоть в чем-то независимым. Люди отчаянно дрались за свои носки, когда санитары решали их отобрать. После этого ты лишался не только носка, но и одежды, и тебя в брезентовом халате бросали в надзорную палату, или ты оказывался в смирительной рубашке, стянутый ремнями, чтобы не разбил костяшки пальцев, колотя кулаками по стене.
Последнее время в Гэндерхилле у меня была комната в хорошем нижнем отделении блока Е, и я пользовался всеми возможными привилегиями. Но в первые годы обычно оказывался среди тяжелобольных и зачастую — в надзорной палате, одетый в смирительную рубашку. Помню, как это произошло впервые, двое санитаров заговорили обо мне, когда я курил, сидя в другом конце комнаты отдыха. И один из них, повернувшись ко мне, сказал другому, что я попал сюда потому, что убил свою мать. Я, естественно, стал опровергать его слова, сказал, что не убивал матери, что ее убил отец. Оба засмеялись и какое-то время говорили о чем-то другом. Но через несколько минут вновь завели речь обо мне, и вновь было сказано, что я убил мать. Я снова возразил им; и они сказали, чтобы я не взвинчивал себя, не приходил в «состояние».
Это было смешно. Помню, что начал раскачиваться на скамье взад-вперед, взад-вперед (не мог остановиться), и пальцы сильно дрожали. Паучок, казалось, панически метался туда-сюда, ища с нарастающим отчаянием какую-нибудь нишу или щель, чтобы спрятаться там. Постепенно раскачивание стало неистовым, а в палате быстро сгущались сумерки, и оба санитара наблюдали за мной с нечеловеческой сосредоточенностью. Поднялся шум, пронзительный крик, свет стал то усиливаться, то затухать, и они прижали меня к полу. Затем раздалось до жути знакомое звяканье пряжек, и обезумевший Паучок, ощутив внезапное сжатие, когда санитары затянули ремни, наконец увидел свою норку, юркнул в нее и потом очнулся в надзорной палате, накрепко связанный, и в голове у него неотвязно вертелась лишь одна мысль, что это совершил его отец, его отец, его отец его отец его отец…
Нелегко вспоминать о тех временах (может быть, то, что я вообще способен уноситься к ним мыслью, и есть проявление так называемого прогресса), но первые годы в Гэндерхилле в значительной мере были школой выносить такое шпыняние — чему я в конце концов научился: настало время, когда я, слыша, как они пытались пробудить во мне неистовство, негромко разговаривая о моей матери, вместо того, чтобы разволноваться — начать раскачиваться и дрожать, бегать, словно краб, в поисках укрытия, — создавал убежища, способные выдерживать провокации: Паучок неустанно перестраивал их, репетировал с неустанным трудолюбием и обрел способность выносить эти шпыняния. Когда это начало получаться, шпыняния прекратились, и его оставили в покое. И жизнь в Гэндерхилле с тех пор стала улучшаться.
Я сижу у реки, свернутый зонтик приставлен к скамье. День хмурый, очень ветреный, состояние от лекарств вялое, может, поэтому и способен думать без волнения о первых годах в Гэндерхилле. Другие пациенты — Джон Джайлс, Дерек Шедуэлл — никогда не говорили мне того, что санитары: друг с другом не было причин подвергать что-то сомнению или лгать. Однако мне приходит на ум, что целью шпыняния, преднамеренной или нет, было заставить меня обдумать и понять, что произошло на Китченер-стрит: вот почему, когда я понял, оно наконец прекратилось, хотя подействовало не быстро, нет, потребовались годы, происходили частые срывы, после которых Паучок оказывался спеленутым, как младенец, под одеялом, или спал на скамье, положив под голову башмак. Но то, что происходило в тот период, представляло собой дальнейшее развитие системы раздвоенного сознания: в закрытой его части обитал Паучок, там мы находим печальную правдивую повесть о Китченер-стрит (которую рассказываю сейчас). А в палате, в комнате отдыха, среди ложных слухов, возмутительных обвинений и провокационных шпыняний пребывал пациент Деннис Клег, маска, призрак, марионетка — потому что Паучок находился в ином месте! (Так продолжалось до тех пор, пока доктор Остин Маршалл не ушел на пенсию, а его место занял новый главный врач, этот человек за два дня сумел разрушить всю мою работу; но подробнее о нем дальше.)
Так что начальные годы были тяжелыми, годами травли. Тяжелее всего были первые месяцы, пока я не приспособился к гэндерхиллским методам. (Вести речь о тех днях гораздо труднее: вообразите, как прямо я сижу на скамье, глядя на сваи в Темзе и чайку, пролетающую с криком мимо под порывистым ветром, как побелели суставы моих костлявых пальцев, стиснутых на ручке зонтика.) Потому что меня превратили бы в свое создание, не обладай я средствами противиться. Представьте меня в холодной, выложенной кафелем комнате при входе в приемное отделение, вымытого и дезинфицированного, совершенно нагого и дрожащего: долговязого тощего мальчишку с выступающими ребрами, с прыщеватой молочно-белой кожей, с ужасом в глазах. У меня отобрали одежду и собираются выдать форменную. Таким образом прежний я, Лондонский Паучок, раздет; и до того, как приму форменную одежду сумасшедшего, еще несколько минут в той холодной, выложенной кафелем комнате я буквально ничто, ни то, ни другое, и странное дело: пока я голое, дрожащее ничто, меня охватывает неодолимое желание расхохотаться; санитар поворачивается от стола, где возится с моими скудными пожитками, и хмурится, а я топчусь на месте и пытаюсь подавить волны какой-то необъяснимой радости — скоро угасшей, когда я влез в слишком тесную рубашку, слишком просторные брюки и ботинки на толстой подошве, из которых вынуты шнурки. Санитар взял мой карандаш, несколько монеток, положил в конверт из плотной бумаги, на котором были написаны дата и моя фамилия, и сказал, что мне вернут их, когда я выпишусь. Так что, войдя в ту комнату лондонским Паучком, я вышел из нее сумасшедшим, не узнающим себя; ужас, уничтоженный кратким странным приступом веселья, вернулся, я сознавал только прикосновение чуждой ткани к коже и чуждые запахи в воздухе. Теперь я боялся, отчаянно, как никогда раньше, и мне хотелось только вернуться в свою комнату над кухней в доме номер двадцать семь. Но тот странный смех: теперь я думаю, что испытывал облегчение.
Джон Джайлс был первым пациентом, которого я встретил в приемной палате, плечистый Джон с кустистыми бровями. Он поступил в Гэндерхилл в один день со мной: когда я только увидел его, он стоял у входа лицом к стене и быстро, оживленно разговаривал сам с собой. За ним, чуть поодаль, на полу сидел маленький человек и, негромко постанывая, дергал себя за воротник, неподалеку от него стоял неподвижно, как статуя, пациент, глядя на свою ладонь с растопыренными пальцами. Должно быть, я замер на пороге, потому что санитар негромко сказал:
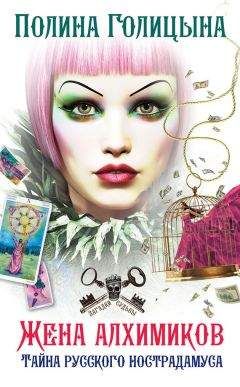


![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/uploads/posts/books/217187/217187.jpg)