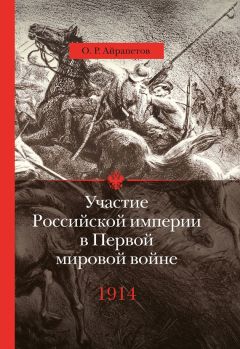Патрик Макграт - Паук
Он хлопал меня по плечу и, мягко посмеиваясь, уходил, а встретив другого пациента, останавливался снова, поворачивался к югу, обращался к этому человеку по имени и снова отпускал дружелюбные замечания относительно поездки в седле. Разговорных тем у него было немного, но теплота в его словах была подлинной; он был замечательным главным врачом, и все мы любили его, кроме Джона Джайлса, тот пытался убить главного при каждой возможности.
Поднимаюсь на ноги и гляжу в окно. Видно приближение рассвета, легкая серая дымка где-то над Северным морем. На чердаке сейчас все тихо, и мой ужас несколько умерился. Отношение мое к тетради меняется: когда начал писать, я хотел изложить сделанные выводы относительно осени и зимы моего тринадцатого года и думал, что подкреплю, поддержу себя этим занятием, упрочу свою слабую личность, так как после выписки не был стабильным. Но все переменилось; теперь я пишу, чтобы сдержать ужас, охватывающий меня каждый вечер, когда на чердаке начинают звучать голоса. Они стали невыносимее, понимаете, гораздо невыносимее, и только потоком собственных слов я могу заглушить их. Страшно подумать о последствиях, если перестану писать и стану их слушать.
Вот так начался очередной день. Я уже и не знал, что хуже, день или ночь. Ночная тишина и одиночество некогда служили мне спасительной гаванью, убежищем от глаз, голосов и мыслительных процессов, казавшихся наиболее активными, когда другие в доме не спали. Теперь наступление темноты ужасает меня, так как эти гнусные твари на чердаке не дают мне покоя. Несколько минут назад я вышел на лестничную площадку, подергал ручку двери, ведущей на чердачную лестницу, — разумеется, безрезультатно, она всегда заперта. Это ее твари, забывать об этом нельзя, потому-то дверь и вечно на запоре; но ведь смогу же я придумать какой-то способ завладеть ее ключами?
До завтрака я курил, глядя на небо. Гряды клубящихся синевато-серых туч — день будет ненастным, с моросящим дождем. На мне надеты все рубашки, сверху черный свитер с глухим воротом, а поверх него пиджак от старого серого костюма. Костюмные брюки, толстые серые носки (две пары) и большие черные кожаные башмаки на толстой подошве, с десятью глазками для шнурков и зубчатой накладкой с декоративными отверстиями на носке. Эти башмаки из психиатрической больницы, их стачал гэндерхиллский сапожник. Еще к ногам и торсу я привязал тесьмой полоски оберточной бумаги и тонкого картона, стоит мне шевельнуться, они потрескивают.
Завтрак прошел как всегда — безжизненные рыбьи глаза над тарелками с кашей, обычная скрипучая порча воздуха. Затем я прямиком вышел на моросящий дождь и направился к каналу, улицы, по счастью, были пусты, если не считать какой-то странной торопливой фигуры слепой девушки под зонтиком, постукивавшей на ходу перед собой тростью. Я подмечал новые для себя черты мира — то, что полоски рифленой жести, из которых состоит забор, ограждающий часть пустыря, заострены, словно копья; что на кирпичных заборах сверху в раствор вставлены осколки бутылочного стекла, а пониже крупными буквами написано «НЕ СОРИТЬ». Из раствора выбивались травинки, жесткие, напоминавшие осоку, щетинившиеся. Но когда я вошел под ставший черным от дождя виадук, то уже промок, ощущал идущий от себя запах сырости. Дул сильный ветер, на тротуаре валялся собачий помет. На одном заборе болтался лоскут полосатой ткани, и под порывом ветра он отхлопал мне какое-то сообщение. У шоссе я остановился и махал машинам рукой, чтобы они проезжали, пока не смог перейти на другую сторону. Оказалось, я шел к реке; а думал, что иду к каналу.
У реки ветер дул сильнее. Пришлось застегнуть пиджак и поднять воротник. Я отыскал скамейку: две бетонные стойки с выступами, к которым привинчены три зеленоватые дощечки с серыми царапинами, еще три привинчены к стойкам и образуют спинку. Скамейка была мокрой, но я не обратил на это внимания, сам был мокрым. Прямо передо мной ржавая черная ограда, за ней река, серо-зеленая, покрытая рябью от ветра. В нескольких ярдах какое-то сооружение из деревянных свай. На другом берегу ряд домов под лесом подъемных кранов, пьяно кренящихся во все стороны, словно готовых вот-вот упасть. Серое небо, громадные, раздувшиеся клубы туч, медленно плывущие под напором ветра на восток. Достаю табак, и с первой глубокой затяжкой приходит мысль: сегодня снова попытаюсь войти в ее комнату.
С реки я вернулся под вечер, совершенно вымокший, и сразу поднялся наверх. У меня была мысль, что, может, перейду на ту сторону канала, отправлюсь на Китченер-стрит, посмотреть наконец, какой она стала двадцать лет спустя, но опять что-то внутри — какая-то глубоко засевшая тревога, нежелание или страх — не позволило мне взойти на мост, и я пошел обычным маршрутом вдоль канала, а потом к дому. Там встал у окна, курил козью ножку, свет снаружи меркнул, вороны хлопали крыльями на голых ветвях деревьев в парке, и я услышал, как хлопнула парадная дверь, а затем увидел миссис Уилкинсон, удалявшуюся по улице с повешенной на руку большой сумкой. Загасил окурок в жестянке, которой пользуюсь вместо пепельницы, и быстро пошел к ее спальне. Я делал это уже несколько раз, когда точно знал, что ее нет дома. На сей раз дверь оказалась незапертой; и я, не колеблясь, вошел.
На первый взгляд ничего необычного. Вы знаете, какая она неаккуратная, как оставляет белье где придется, как загромождает туалетный столик косметикой и всем прочим, как никогда не застилает постель: прошедшие годы определенно исправили эти неряшливые манеры, потому что комната была прибранной, опрятной, кровать застеленной, ничего из белья нигде не валялось. Я быстро обыскал комод и не обнаружил ничего интересного, на ночном столике и в его ящике тоже. Заметил на стенах картины в рамках, два живописных вида Озерного края и над кроватью Мадонну с Младенцем. После этого вышел на лестничную площадку проверить, не вернулась ли она: ни звука, лишь приглушенная танцевальная музыка по приемнику в комнате отдыха. Затем вернулся и направился к большому темному гардеробу, стоявшему у стены напротив двери. Осторожно приближаясь, я увидел в его длинном зеркале свое отражение: все еще в черном свитере и старом сером костюме; каким странным, вороватым созданием я выглядел, длинноногим, идущим на цыпочках по этой темной спальне, каким паучком!
Взявшись за дверцу гардероба, я оглянулся и вновь стал прислушиваться к звукам в доме — пять, десять, пятнадцать секунд: ничего, кроме далекой музыки из приемника. Открыл гардероб — и первым делом увидел ее старую шубу, хотя она была задвинута в конец вешалки, почти спрятана.
Тут я услышал, как хлопнула парадная дверь (к счастью, ее трудно затворить тихо), и быстро, бесшумно вышел, оставив в спальне все, как было, вернулся в свою комнату и тут уже, сильно дрожа от волнения, стоял у окна и пытался успокоиться.
Так я простоял долго, прижав левую руку к груди и стискивая пальцами костлявое плечо, а во все еще дрожавших пальцах правой держал козью ножку, она была необходима. Постепенно дрожь слегка унялась, и туг к моим ноздрям вновь поднялся запах сырого свитера, в конце концов я потряс головой и отогнал волнение. Снял пиджак, повесил на дверь, за ним дурно пахнувший свитер. Но запах сохранился, и только тут я распознал в нем газ.
То была нелегкая ночь. Не знаю, как перенес ее, худшей, пожалуй, у меня еще не бывало. Несмотря на привязанную к торсу оберточную бумагу, жилеты, рубашки и свитер поверх них, запах газа не проходил до рассвета. Разумеется, я достал тетрадь и, думаю, только она спасла меня от того, чтобы причинить вред себе или еще кому-то. Твари на чердаке изобрели новую стратегию: я, конечно, не гасил свет всю ночь, лампочка, как обычно, потрескивала на меня, и я не обращал на нее внимания — пока треск вдруг не стал громким, как на Китченер-стрит в ту ночь, которую я описывал, только теперь его сменили голоса, они тянули монотонный напев: УБЕЙ ее убей ее убей ее убей ее УБЕЙ ее убей ее убей ее убей ее. Я оторвал внимание от тетради и сосредоточился на лампочке, но шум сразу же снизился до обычного потрескивания. Я вновь принялся за работу, но едва погрузился в нее с головой, треск снова перешел в этот жуткий напев, я снова вскинул голову, и напев перешел в смех, постепенно затихший, после чего опять остались только поврежденная лампочка в доме со скверной проводкой и пришедший в отчаяние человек, измученный обращениями, доносящимися невесть откуда, чердак наверху, лампочка над головой или какая-то глубокая нора в глубинах его больного разума. О, это была мучительная ночь, хоть бы такой больше никогда, никогда не выпадало на мою долю.
Незадолго до рассвета напряжение спало, и я сделал перерыв, свернул самокрутку, просмотрел тетрадные страницы. Они были исписаны и усеяны пятнами, покрыты словами, которые не особенно хотелось читать, потому что ночь была на исходе. С моим почерком что-то происходило, в нем появились заметный наклон и плавность, теперь это была рука, а не каракули человека, который читал много, но мало писал. Это была плавная рука, рука писателя, и в других обстоятельствах, думал я, возможно, разглядывал эти писания с удовлетворением, даже с гордостью. Но обстоятельства работы не допускали такого удовольствия; мне придавало духу только слабо серевшее на востоке небо, предвестие рассвета приносило какое-то облегчение от этих страданий, по крайней мере на несколько скоротечных светлых дневных часов. Где-то зашумела вода в туалете, заурчали водопроводные трубы, и я представил себе выходящую из туалета мертвую душу в грубой заношенной пижаме, с мутными глазами и желтым налетом в их уголках, с запахом изо рта, идиотски зевающую и плетущуюся обратно к узкой койке, чтобы вновь погрузиться в блаженное забвение сна; и в этот миг готов был отдать кисть руки или всю руку — или руку и ногу! — за то, чтобы стать мертвой душой с пустым разумом и блаженной возможностью спать. Бодрствовать — значит быть доступным страданию, и в этом весь смысл жизни.
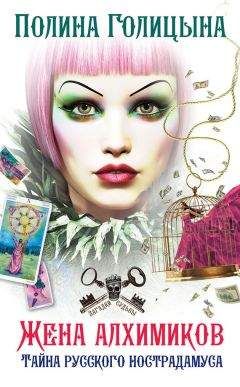


![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/uploads/posts/books/217187/217187.jpg)