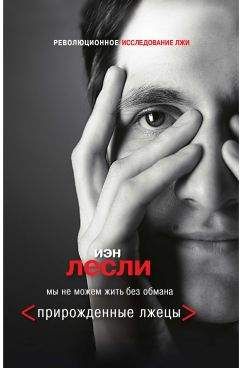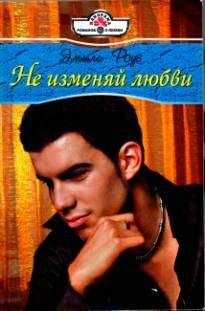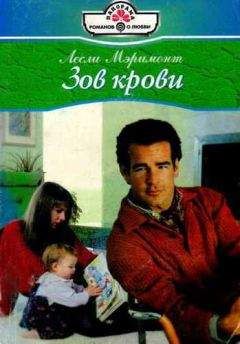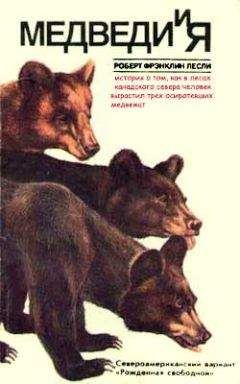Эмили Локхарт - Виновата ложь
У меня постоянно болит голова. Не знаю, что делать, чтобы это прекратить. Таблетки не помогают. Кто-то рассекает мне макушку ржавым топором, который не может ровно разрубить мне череп. Кто бы им ни орудовал, ему приходится снова и снова рубить мне голову, и не всегда по одному и тому же месту. У меня множество ран.
Иногда мне снится, что человек, рубящий топором, это дедушка.
В других случаях это я.
А бывает, что Гат.
Прости, что выплескиваю на тебя свое безумие. Пока я печатаю, у меня трясутся руки, и экран ужасно яркий.
Иногда я хочу умереть, настолько у меня болит голова. Я продолжаю писать тебе свои хорошие мысли, но никогда не высказываю мрачных, хоть они появляются у меня постоянно. Потому я решила высказать их сейчас. Даже если ты не ответишь, я буду знать, что кто-то меня услышал, и это уже немало.
КаденсМы читаем все двадцать восемь сообщений. Когда она заканчивает, то целует меня в обе щеки.
— Я даже не могу попросить прощения. Даже в «Эрудите» нет слова, способного описать, насколько мне стыдно.
Затем она уходит.
75
Я отношу свой ноутбук на кровать и создаю новый документ. Затем снимаю свои записки со стены и начинаю перепечатывать их вкупе с новыми воспоминаниями, быстро и с тысячью ошибок. Пробелы в памяти я заполняю догадками.
Центр Общения и Закусок имени Синклера.
Ты больше не увидишься со своим любимым Гатом.
Он хочет, чтобы я держался от тебя подальше.
Нам нравится в Уиндемире, не так ли, Кади?
Тетя Кэрри, плачущая, в куртке Джонни.
Гат, кидающий мячики собакам на теннисном поле.
Боже, Боже, Боже.
Собаки.
Собаки, мать вашу!
Фатима и Принц Филипп.
Ретриверы погибли в этом пожаре.
Теперь я это помню, и это моя вина.
Они были такими непослушными, не то что Бош, Грендель и Поппи, которых тренировала мамочка. Фатима и Принц Филип ели морских звезд прямо на пляже, затем их рвало в гостиной. Они стряхивали на всех воду со своей мохнатой шерсти, облизывали еду, приготовленную для пикника, жевали диски для фрисби, превращая их в бесполезные куски пластика. Им нравились теннисные мячики, и они часто бегали на корт, чтобы погрызть те, что остались после игры. Они не сидели, когда им приказывали. Клянчили еду со стола.
Когда начался пожар, собаки были в одной из гостевых спален. Дедушка часто запирал их наверху, когда Клермонт пустовал, или на ночь. Чтобы они не жевали нашу обувь и не выли на дверь.
Дедушка закрыл их в доме, прежде чем уехать с острова.
А мы не подумали о них.
Я убила тех собак. Я жила с ними и знала, где спали Принц Филипп и Фатима. Остальные Лжецы не задумались о ретриверах — по крайней мере, не слишком. В отличие от меня.
Они сгорели заживо. Как я могла о них забыть? Как я могла так увлечься собственной глупой и преступной задумкой, своим возбуждением, своей злостью на тетушек и дедушку…
Бедные, бедные Фатима и Принц Филипп. Нюхающие под нагретой дверью, вдыхающие дым, тявкающие, с надеждой виляющие хвостами, ожидая, что кто-то придет за ними.
Какая ужасная смерть для несчастных, любимых, непослушных собак.
76
Я выбегаю из Уиндемира. На улице уже стемнело, почти время ужина. Мои чувства вытекают через глаза, разъедая мне лицо, прорываясь сквозь кожу, когда я представляю собак, как они еще надеются на спасение, глядя на дверь, из-под которой валит дым.
Куда идти? Я не могу видеться со Лжецами в Каддлдауне. В Рэд Гейте могут быть Уилл или тетя Кэрри. На самом деле остров так чертовски мал, что мне некуда пойти. Я заперта тут, в этом месте, где убила этих бедных, несчастных собак.
Вся моя утренняя бравада,
власть,
идеальное преступление,
свержение патриархата,
спасение Лжецами летней идиллии, возрождение,
сохранение семьи — путем ее частичного уничтожения…
Все пошло прахом.
Собаки мертвы. Глупые, милые собаки,
которых я могла спасти.
Невинные псины, чьи морды светились от радости, когда ты предлагал им кусочек гамбургера
или просто подзывал.
Которые любили плавать на лодках
и весь день носились повсюду, пачкая свои лапы.
Что за изувер совершает действия, не подумав о тех, кто может быть заперт в верхних комнатах, кто доверяет людям, которые любили их и всегда окружали заботой?
Я издаю тихие и странные всхлипы, стоя на дорожке между Уиндемиром и Рэд Гейтом. Мое лицо все мокрое, грудь сжимается. Я пячусь обратно домой.
На ступеньках стоит Гат.
77
Завидев меня, он спрыгивает и обнимает меня. Я плачу ему в плечо и прячу руки под его куртку, обняв его за талию.
Он не спрашивает, что стряслось, пока я не говорю сама:
— Собаки. Мы убили собак.
Он отвечает не сразу:
— Да…
Я снова умолкаю, пока не перестаю дрожать всем телом.
— Давай присядем, — предлагает Гат.
Мы устраиваемся на ступеньках крыльца. Он прижимается головой к моей голове.
— Я любила их.
— Все их любили.
— Я… — Я запинаюсь. — Не думаю, что нужно это обсуждать, или я снова заплачу.
— Хорошо.
Мы сидим с ним какое-то время.
— Это все? — спрашивает Гат.
— Что?
— Это все, из-за чего ты плакала?
— Господи помилуй, а есть еще повод?
Он молчит.
Молчит и молчит.
— Черт, есть или нет? — В груди пустеет и леденеет.
— Да… есть еще кое-что.
— То, чем со мной никто не делится. То, о чем я не должна вспоминать, так мама хочет.
Пару секунд он обдумывает мои слова.
— Мне кажется, тебе говорят, но ты не хочешь услышать. Тебе было плохо, Каденс.
— Вы не говорите мне напрямую.
— Нет.
— Какого черта?!
— Пенни сказала, что так будет лучше. И… ну, с присутствием всех нас четверых, я верил, что ты вспомнишь сама. — Он убирает руку с моего плеча и обхватывает свои колени.
Гат, мой Гат.
От него веяло страстью и жаждой деятельности, интеллектом и крепким кофе. Мне нравятся веки его карих глаз, его гладкая темная кожа, его пухлая нижняя губа. Его мысли. Его мысли.
Я целую его в щеку.
— Я вспомнила о нас больше. Помню, как мы целовались у двери в прихожую, прежде чем все пошло наперекосяк. Как сидели на теннисном корте и обсуждали, что Эд сделал Кэрри предложение. На тропинке у скалы, где никто не мог нас увидеть. Как на маленьком пляже придумывали план пожара.
Гат кивает.
— Но я не помню, что пошло не так. Почему мы не были вместе, когда со мной это случилось. Мы поссорились? Я что-то натворила? Ты вернулся к Ракель? — Я не могу смотреть ему в глаза. — Мне кажется, я заслуживаю честного ответа, даже если наши отношения не продлятся.
Гат кривится и прячет лицо в руках.
— Я не знаю, что делать. Не знаю, что должен сделать.
— Просто расскажи мне.
— Я не могу остаться с тобой. Мне нужно вернуться в Каддлдаун.
— Зачем?
— Я должен, — говорит он, вставая. На пол-пути Гат останавливается и поворачивается. — Я все испортил. Мне так жаль, Кади. Очень, очень жаль! — Он снова плачет. — Мне не стоило целовать тебя или делать качели и даже дарить розы. Мне не стоило говорить, какая ты красивая.
— Но я этого хотела.
— Знаю, но я должен был держаться подальше. То, что я сделал, полная фигня. Прости.
— Вернись, — говорю я, но он не двигается, и я сама иду к нему. Кладу руки ему на шею и прижимаюсь щекой. Целую его со всей страстью, чтобы он понял — это всерьез. Его губы такие мягкие. Он лучший человек, которого я знаю, лучший, кого я когда-либо узнаю, и неважно, что плохого между нами произошло, неважно, что будет потом.
— Я люблю тебя, — шепчу я.
Он отодвигается.
— Об этом я и говорю. Прости. Я просто хотел увидеть тебя.
Он поворачивается и теряется в темноте.
78
Больница в Мартас-Винъярде. Лето-номер-пятнадцать, после моего несчастного случая.
Я лежу на кровати под голубым одеялом. Казалось бы, больничные одеяла должны быть белые, но эти голубые. В комнате жарко. Из руки торчит игла капельницы.
Мама и дедушка уставились на меня. У деда в руках была коробка Эдгартаунских ирисок, подарок.
Это было так трогательно, что он вспомнил, как я их обожаю.
Я слушала музыку в наушниках, потому не слышала, что говорили взрослые. Мамуля плакала.
Дедушка открыл коробку, отломил от пласта ириску и протянул мне.
В моих ушах звучало:
Наша молодость потрачена впустую,
Не повторяйте моей ошибки.
Запомните мое имя,
Потому что мы войдем в историю.
На-на-на-на, на-на-на.
Я поднимаю руку, чтобы вытащить наушники. Она забинтована.
Обе руки забинтованы.