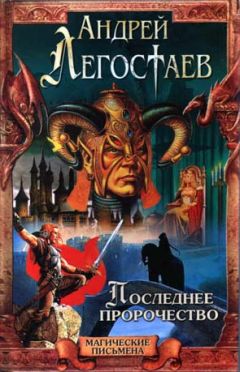Дмитрий Глуховский - Сумерки
Что, попросив хранить эту тайну, за спасение его от обезумевших от хвори солдат и, прежде всего, Васко де Агилара, этот индеец отплатил мне по справедливости, доверив такое, о чём прежде он сам и его соплеменники отказывались говорить даже под страхом костра».
Хотя мне хотелось прервать чтение ещё при описании первых симптомов загадочной лихорадки, поразившей отряд, я так и не сумел оторваться от текста, покуда не покончил с посвящённым ей пассажем. Лишь после этого, опустив веки, я стал вспоминать ту болезнь, что довелось перенести мне самому. Жар, скручивающий тело как тряпку и выжимающий из него весь до капли пот, соперничающие по правдоподобию с действительностью кошмары, и слабость, которая лишает воли и мышцы, и разум, делает их ватными, чужими…
Признаки те же; я-то грешил на холодный ливень, под который попал, блуждая в прострации по арбатским переулкам. Однако на самом деле подцепить заразу я мог несколько раньше — вместе со всем отрядом, на болотах Кампече. Я хотя бы мог противопоставить этой мнимой простуде пять столетий развития медицинской науки, лошадиные дозы жаропонижающего и постельный режим. Остальные участники экспедиции должны были довольствоваться бесполезными кровопусканиями, влажной тряпкой компресса, в считанные секунды нагревающейся и перестающей приносить облегчение, и тяжёлым сырым воздухом тропического леса, который так трудно входит в окостеневшую грудь. У меня получилось перебороть призрачную лихорадку быстрее и с меньшими последствиями, однако вряд ли я смог бы выстоять против неё, случись мне быть искусанным болотным гнусом четыреста пятьдесят лет назад.
Рассуждая так, я уже полностью уверовал в то, что моя болезнь была отброшенной на наш мир тенью болезни из читаемой мною книги, и даже не задавался вопросом, как это возможно. Заразился ли я, держа в руках листы, на которых могли оставаться иссушенные и уснувшие на века бациллы? Мне приходилось слышать, что споры, переносящие сибирскую язву, попадая в неблагоприятные условия, могут ждать своего часа десятки лет; впрочем, не исключено, что я здесь опять что-то путаю.
Или, чтобы успокоить своё раненое рацио, допустить хотя бы, что на людей с подвижной психикой, вроде меня, дневник может оказывать некоторое гипнотическое воздействие?… В любом случае, надо было набраться храбрости и всё-таки признать, что мне приходилось иметь дело с не вполне обычной книгой…
Делал ли я свой выбор осознанно, когда стало ясно, что книга заставляет меня идти ва-банк? Понимал ли я, что среди ярких фишек, выложенных мной на зеленое сукно в этой азартной игре, правил которой я не знал, одна означает здравомыслие, другая — веру в реальность окружающего мира, третья — жизнь? Вряд ли. Я был так увлечён самой игрой и раздразнён возможностью выигрыша, сулившего мне катарсис и просветление одновременно, что не задумывался о ставках. И хотя они повышались с каждой прочтённой страницей, остановиться я уже не мог.
«Что, когда люди наши погибали от этой проклятой лихорадки один за другим, спорили мы, как поступать с их телами. Что были среди нас такие, кто требовал отпеть их и похоронить по христианскому обычаю; иные же говорили, что трупы надо сжигать, как во время чумы, дабы уберечься от заражения. Что сам брат Хоакин, лечивший их, не знал, как поступать, поскольку монах в нём требовал для несчастных отпевания и человеческих похорон, а лекарь — предавать тела пламени, дабы спасти здоровых.
Что некоторые умирающие, приходя в сознание, заклинали не жечь их тела, говоря, что поступая так, мы отрицаем им воскрешение после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа; однако же, каждый вечер смерть приходила за несколькими из них, и врач в душе брата Хоакина возобладал в конце концов над священником. И что когда очередной солдат отдавал Богу душу, брат Хоакин отпевал его и потом сам сжигал тело, плача и моля Всевышнего простить его великие прегрешения.
Что трупы предавали огню в стороне от лагеря, чтобы не тревожить больных, но когда ветер был с той стороны, где это происходило, больные приходили в великое беспокойство, и многие из них кричали и плакали, моля Господа, что их минула эта ужасная доля.
Что через неделю от нашего отряда остались всего девять человек, среди которых сеньор Васко де Агилар, брат Хоакин, проводник Хуан Начи-Коком и я, а также пятеро солдат; прочие же все умерли. И что один из солдат, по имени Хуанито Хименес, спрашивал, не была ли лихорадка нам знаком, и не должно ли нам повернуть назад, пока мы не погибли все, однако его никто не послушал; люди надеялись ещё найти сокровища, коих теперь при дележе причиталось бы на каждого в избытке.
Что, когда я спросил проводника, долгий ли ещё путь лежит перед нами, тот ответил, что теперь уже осталось пройти немного, и что вскоре должна показаться дорога, по которой мы можем идти куда быстрее.
Что Хуан Начи-Коком отныне держался подле меня и никуда сам не отходил, и что покидал меня, только отправляясь на охоту. Что по этой причине мы с ним шли во главе отряда, так как он должен был показывать путь, а прочие ступали сзади. Что этот молчаливый индеец из признательности стал много говорить со мной, объясняя мне жизнь леса, рассказывая иногда удивительные и непонятные испанцу легенды своего народа, которые, несмотря на то, что учился в школе при монастыре, очень хорошо знал. И что в один раз, когда другие отстали от нас порядочно, он спросил меня, что известно мне о летописи будущего.
Что это странное его выражение я принял за оговорку и отнёс на счёт его испанского языка, который, хоть и был хорош, иногда мог его подвести. Но что, когда я сделал ему замечание, Хуан Начи-Коком не исправился, а настоял на своём, и шёпотом поведал мне, что за этой летописью и послан наш отряд, а отнюдь не за сокровищами, которых, возможно, в храме и вовсе нет.
Что в тот миг догнал нас брат Хоакин и стал расспрашивать индейца о некоторых найденных им травах, и об их свойствах, так что наша тайная беседа была прервана».
Уже сквозь страницу, содержавшую несколько последних абзацев, несмотря на толщину и приобретённый с веками цвет бумаги, виднелось что-то тёмное, отпечатанное или нарисованное на следующем, лежащем под ней листе. Приняв это за иллюстрацию, я подавил в себе любопытство и не стал забегать вперёд, чтобы поскорее её рассмотреть. Я сосредоточился на переводе, вскоре забыл о проступавшем сквозь бумагу неясном силуэте и без труда вытерпел до конца страницы.
Но перевернув её на словах «была прервана», я застыл: то, что я принял за гравюру или рисунок, оказалось бурым пятном причудливой формы и самого зловещего вида. Я не сомневался ни секунды: это была кровь, и, судя по характерному ржавому оттенку, пролитая не так давно.
Мне пару разу приходилось наблюдать, когда у меня в школе кровь шла носом, как такие пятна постепенно высыхают на листиках в клеточку и линеечку. С гладкой поверхности таких листов соскальзывают даже шариковые ручки, а упавшие на бумагу ярко-красные кровяные капли будут одиноко остывать, медленно выцветая по мере того, как задыхаются и погибают эритроциты. Цвет этих пятен в школьных тетрадях распределяется неравномерно: под действием силы тяжести и векторов молекулярного движения кровь соберётся в одной точке пятна, где, в конечном итоге, бумага будет темнее.
Это отступление может оказаться неуместным, но пока я, стараясь утихомирить застучавшее вдруг сердце, разглядывал кровавую кляксу на следующей странице, думать ни о чём другом у меня не выходило. Всё пятно было одинаково, ровно окрашено. Старая бумага, не покоробившись, жадно впитала кровь; так растрескавшаяся от июльской засухи земля, сколько её ни поливай, до капли выпивает всю воду.
Листкам в клеточку и в линеечку несвойственна такая вампирическая жажда; конверсионные чудища постсоветской писчебумажной промышленности, из чрева которых выходят сотни тонн школьных тетрадей, не умеют вдохнуть в бумагу жизнь. А вот бумага испанского дневника была осязаемо живой…
Оно находилось внизу не заполненной до конца текстом страницы — почти там же, где на исходе Capítulo II располагался рисунок уродца Чака; должно быть, я принял его за картинку ещё и по этой причине. В кляксах, как и в облаках, можно бесконечно угадывать всевозможные очертания, это известно каждому, кому психолог хоть раз подсовывал свои злокозненные бумажки с тестами Роршаха. То, что для одного пациента выглядит как бабочка, другому видится ядерным грибом, а третьему — сиамскими близнецами в профиль. Изобретение Роршаха — камертон для настройщиков человеческих душ.
Моя, видимо, была изрядно расстроена. С одной стороны, я прекрасно сознавал, что бурое пятно на бумаге — такая же бессмысленная клякса, как растёкшаяся тушь на бланках с тестами; с другой — его линии однозначно складывались в силуэт какого-то фантастического животного. Равномерно высохшая кровь делала рисунок вдвойне жутким и невозможным: её не размазывали, добиваясь зловещего сходства, она словно сама легла так на бумагу, которая тут же всосала попавшую на неё жидкость.