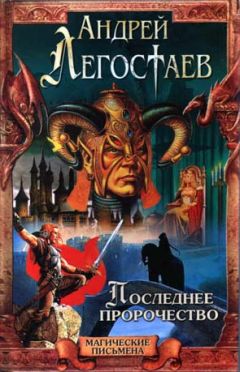Дмитрий Глуховский - Сумерки
Пока я перечитывал описания обрядов и вспоминал их смысл, прошло еще около получаса, но небосвод оставался все таким же черно-серым, грязноватым, непроницаемым. Я более не нуждался в толкованиях, Ягониэль объяснил мне все. Хотя столбняк, выгибавший Землю в болезненных агониях, был усмирен, отмены приговора это не означало. Напротив… Мне подумалось о той расслабленности, в которой опадает тело казнимого электрическим разрядом осужденного, после того как ток отключается.
Что же… Мне оставалось только одно.
В свой последний поход я собирался основательно, словно отправляясь в экспедицию на Северный полюс. Термос с чаем, теплая одежда, ручка и кипа чистой бумаги, две упаковки стеариновых свечей, стеклянный колпак, чтобы их не задуло. Да, стоит взять еще один свитер: там, наверху, сейчас, наверное, очень ветрено…
Поднимаясь на десятый этаж по лестнице, я прикладывался ухом к дверям соседских квартир. Везде было тихо; только в двух из них заглушенные разговоры чередовались с придушенным детским плачем. Мрачную торжественность этих минут ощущал не только я: люди боялись говорить громко и покидать укрытие родных стен, чувствуя поджидающих их во внешнем мире демонов. Я же их не страшился: что значит встреча с духами по сравнению с тем, что предстоит встретить всему миру в ближайшие часы?
Замок и милицейскую печать, закрывавшие мне выход на крышу, я легко сломал. Большинство законов и правил, преисполненных значения в обычное время, накануне Апокалипсиса теряют всякий смысл. Ветер вечности срывает с человека всю нанесенную обществом шелуху, всю наросшую коросту цивилизации, оставляя его первозданным, нагим и беззащитным — наедине с собой и с миром, один на один с богами и со смертью.
Вопреки моим ожиданиям, на крыше почти не было холодно. Густые серые клочья облаков, жирно выписанные маслом на черном полотне небосклона, застыли, словно божественное дыхание, обычно подхватывающее и гонящее их вдаль, иссякло. Словно передо мной и вправду была мертвая картина.
Я огляделся.
Сталинский десятиэтажный дом в сегодняшней, напичканной гормонами роста Москве, больше не обеспечивает, как пару десятков лет назад, господствующей высоты. Пусть мне и хотелось бы лучшей смотровой площадки, чтобы первым видеть прибытие ангелов Апокалипсиса, но Ягониэль четко предписывал желающим созерцать светопреставление занимать места на крышах именно своих домов, а я не собирался нарушать ритуалы, выверявшиеся тысячелетиями. И потом, вид на город мне отсюда все же открывался довольно неплохой.
Почти вся Москва оставалась без света, лишь в нескольких местах, в зданиях, вероятно, снабженных собственными генераторами, мерцали электрические оазисы. Вязкий мрак лениво омывал тяжелые глыбы арбатских домов, неспешно тек по мертвому руслу искореженного Садового кольца, плескался у подножий сталинских высоток, которые гротескными свадебными тортами возвышались над остальными постройками. Кое-где суетились светлячки машин, беспорядочно тычась в невидимые сверху препятствия и силясь проехать по вздыбившемуся асфальту.
Приблизившись к самому карнизу, я свесил ноги вниз и обратил лицо на восток. Верно, было уже около полудня, но горизонт оставался так же пуст и черен, как в безлунную ночь. Дождусь ли я восхода? Должно быть, для юкатанских индейцев, в конце каждого полувекового цикла так же нетерпеливо дожидавшихся появления на небе ослабевшего Ах Кинчила, каждая секунда многократно удлинялась, делая ожидание бесконечным.
Я знаю, что конец неотвратим. Мне были все знамения Армагеддона, и я уверен, что правильно истолковал их. Остается только дождаться последнего, заключительного удара, который уронит небеса на землю и сотрёт в пыль всех людей до последнего, и все, созданное ими, и саму память о них, и остановит время.
Я знаю, что умирающий Бог, отчаянно борющийся с пожирающим его недугом, обречен. Что из объятий Морфея можно освободиться, но морфий никогда не разожмет своих и не отпустит Кнорозова. Что я, картонный статист его видений, вместе со всей окружающей меня Вселенной замурованный в одиночке его сознания, сгину в тот же миг, как умиротворенно разгладятся морщины на его лбу и кривая его кардиограммы.
Я знаю, что Апокалипсис этот пройдет незамеченным. Сколько таких невообразимо богатых, увлекательных, бескрайних Вселенных рождается и гибнет каждый день, так и не найдя своих летописцев, оставляя о себе память лишь в статистических сводках да на могильных камнях, где головокружительная человеческая жизнь, всех граней которых он не постиг и не упомнил сам, сожмется до двух сухих дат.
Человек смертен.
Но почему тогда все еще я сижу на крыше старого арбатского дома, сижу уже столько часов, что мне хватило времени записать всю эту историю, и все вглядываюсь, до боли в глазах вглядываюсь вдаль, за горизонт, бесконечно ожидая, что светило еще взойдет над землей и рассеет мертвенную тьму?
Не потому ли, что человеку, приходящему в мир на срок лишь немного более долгий, чем тот, что отведен бабочке-однодневке, дано схожее с ней утешение: легкомыслие и неведение. Эта нелепая иллюзия бессмертия — все, что ему было предложено взамен отнятой вечной жизни в райских кущах. Потому невозможно отобрать ее у человека, как невозможно истребить надежду, прорастающую вопреки всему и в самой засушливой душе.
…Я нахожусь здесь уже вечность и готов оставаться на этом месте еще столько же. И я не покину своего поста, пока не увижу, как сквозь клубы грозовых облаков где-то невероятно далеко просачивается первый лучик поднимающегося со смертного одра Солнца.