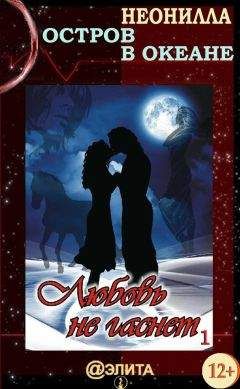Альберт Пиньоль - Холодная кожа
В другой раз я чуть не убил животину. Не припомню, как это вышло; впрочем, большого значения это не имеет. Кажется, она перетаскивала поленья. Одно из трех, что были в ее руках, упало на землю. Когда это неловкое существо хотело поднять его, еще одно полено покатилось на землю. Она нагнулась, чтобы поднять второе полено, и потеряла третье. Идиотская операция повторялась до бесконечности. Я подошел к ней.
– Подними поленья, – сказал я. Она пыталась выполнить приказ и терпела неудачу за неудачей. Я дал ей подзатыльник. – Подними поленья. – Мои окрики внушали ей ужас. – Подними поленья! – Она дрожала от страха. Я схватил ее за шиворот. – Подними поленья! – Она пискнула, прося о помощи, и это вызвало во мне прилив ярости. Я, без сомнения, убил бы ее, не появись вовремя Батис.
– Камерад, это всего лишь лягушан.
Эти слова не были выражением милосердия, а просто заявлением собственника, тут не должно быть заблуждений. То, что я избивал это существо, задевало его только потому, что нарушало его право собственности на животину, не более того.
– Да, лягушан. И только один. В этом–то вся проблема, – сказал я. И ушел.
Мое отчаяние объяснялось тем, что в мозгу то и дело вспыхивали мысли, в которых мне не слишком хотелось себе признаться. Во–первых, было совершенно очевидно одно: я вложил капитал собственной жизни в подводное приключение – там, на португальском корабле, я рисковал своей шкурой. И по какому–то необъяснимому стечению обстоятельств, после того как мне пришлось подвергнуться риску, нашими врагами овладела апатия. Это выводило меня из себя. После той операции я чувствовал себя как добропорядочный буржуа, который ожидает отдачи от своих трудов. Более того: я думал, или хотел думать, что массовое уничтожение чудищ избавит меня от опасности, которая мне угрожала, раз и навсегда, что ад исчезнет и больше не появится. С другой стороны, во мне жило волнение, которое я не мог выразить словами. Крошечная ручонка у стекла скафандра. И еще сексуальность животины. В течение дня разброд мыслей вызывал у меня галлюцинации курильщика опия. Батис сидел передо мной и ворчал что–то, а я отвечал чаще всего невпопад. Мое внимание рассеивалось. Расстояние между нами заполнялось фигурами, сотканными из дыма.
Я видел подводную ручонку. Ее пальчики скреблись в стекло без страха, по–детски невинно. Потом возникла фигура животины. Она извивалось прямо передо мной, и зрелище было таким ярким, словно воздух превратился в экран. Затем – наше совокупление со всех точек зрения. Такое грубое и такое простое.
Самое главное противоречие заключалось в том, что чем большее наслаждение я получал, тем сильнее ненавидел животину. Для меня она была одним из чудищ, и то, что они приносили с собой столько ужаса, а она дарила мне такое блаженство, возможно, объясняло те приступы нервного возбуждения, которыми я страдал. «Думай, думай, – говорил я себе, стуча себе по лбу кулаком, – думай, думай». Но «думать» для меня не означало «размышлять», я умел только строить планы. Действие вытесняло идеи; когда я пытался взвесить и оценить обстоятельства, мой мозг сопротивлялся и скрипел подобно несмазанным дверным петлям. Мы приготовились к наступлению, и мне не хотелось оставлять занятую позицию.
– Батис, – сказал я однажды, – мы должны рискнуть. Давайте бросим им какую–нибудь наживку, посмотрим, как они отреагируют. Нам надо будет оставить дверь открытой. – Не дожидаясь его возражений, я поспешил добавить: – Это вовсе не так опасно, как кажется. Посудите сами, они могут подниматься по винтовой лестнице только по одному. Стрелок, расположившись около люка, сможет легко справиться с ними. Но, думаю, до этого дело не дойдет. Нам нужно только, чтобы они столпились у маяка. Когда это случится, они взлетят на воздух.
Батис смотрел на меня взглядом девственницы, к которой приближается насильник. Целую вечность он в одиночестве или с посторонней помощью защищал маяк, и лапы чудовищ не коснулись плит его святилища. А теперь я предлагал ему открыть дверь.
– Тысяча мертвых чудищ, Батис, – сказал я, чтобы это число разбудило его скудное воображение.
– А кто будет дергать рычаг детонатора?
В этом вопросе отразилось ребячество Батиса. Существуют бойцы двух типов. Одни обдумывают стратегии, а другие не могут преодолеть в себе детской наклонности ломать все вокруг. Я причислял себя к первой группе, Батис, похоже, был из числа последних.
– Можете делать это сами, – успокоил я его. – Если не возражаете, я буду прикрывать люк над лестницей, пока вы будете отправлять их в преисподнюю.
Так мы и решили. С наступлением сумерек я открыл дверь. Через каждые двадцать ступенек я поставил по керосиновой лампе, чтобы увидеть чудищ и остановить, если они проникнут внутрь. Мне будет достаточно просунуть ствол ремингтона в люк. Даже самый плохой стрелок в мире не промажет в таких условиях. Батис стоял на балконе, я прикрывал его со спины, держа лестницу под контролем.
– Ну, что? Вы их видите? – спросил его я.
– Нет.
По прошествии нескольких минут:
– А сейчас? А сейчас, Батис?
– Нет. Я ничего не вижу. Ничего.
Я хотел убедиться в этом сам и, движимый нетерпением, приблизился к балкону.
– Вернитесь к люку! – завопил Батис. – Немедленно, черт вас побери! Вы что, хотите, чтобы нас убили?
Он был совершенно прав. Чудища могли укрыться от луча прожектора и напасть на нас неожиданно. Но я тоже ничего не видел. Лишь слабый свет керосиновых ламп, распределенных на каждом витке лестницы. Огонь дрожал при малейшем движении воздуха.
– Два, – сказал Батис.
– Где они, где? – закричал я со своей позиции, требуя уточнения.
– На востоке. Идут сюда. Их четверо, пятеро. Не могу сосчитать.
– Не стреляйте. Пусть подойдут ближе. И пусть увидят открытую дверь.
Этот обмен краткими телеграфными репликами обжигал мне нервы. Кафф ходил по балкону, вглядываясь в темноту. Я целился из ремингтона в люк, то и дело взглядывая на Батиса и спрашивая, нет ли каких–нибудь новостей снаружи. Это едва не стало роковой ошибкой. Звон разбитого стекла привлек мое внимание. Керосиновые лампы на нижних витках лестницы потухли.
– Кафф, они уже здесь! – закричал я.
Мне было слышны их звуки там, внизу. Я успел заметить лапу, которая схватила третью лампу. Теперь большая часть лестницы оказалась в темноте. Нижний этаж превратился в черную дыру, откуда до меня доносился концерт лягушачьих голосов. Неожиданно одно чудовище, оторвавшись от собратьев, стало молниеносно взбираться по лестнице на четвереньках. Оно не тронуло лампу – ему было не до нее, – и я мог во всех подробностях разглядеть ползущее наверх тело. Сохранившиеся на лестнице керосиновые лампы освещали его со стороны живота, и это еще более подчеркивало его жуткий вид. Чудовище двигалось на меня, направляясь прямо под выстрел. Стрелять? Если я сделаю это, его товарищи внизу, возможно, отступят, а мы хотели уничтожить их всех.
– Камерад, Камерад, – слышался мне голос Батиса. У меня не было времени объяснять ему свои действия, потому что страшное существо преодолевало ступеньку за ступенькой с ловкостью ящерицы. Но когда нас разделяло только десять ступенек – вот уже девять, восемь, – оно вдруг замерло. Мы посмотрели друг на друга. Я – через люк, оно – с расстояния в восемь ступенек от моей винтовки. Между нами была только одна лампа. Мы посмотрели друг другу в глаза, да, прямо в глаза, и тонны ненависти излились в небольшое пространство между нами. Чудовище казалось мне одним из видений святого Антония[10]; мы в полном смысле этого слова принюхивались друг к другу, каждый соизмерял силы и возможности противника. Существо сидело на лестнице, упершись широко расставленными руками в следующую ступеньку. Это позволило мне заметить деталь, которая многое объясняла: на одной руке у него не хватало половины пальца и части перепонки. Черный гной и запекшаяся кровь на рубцах смотрелись как одна отвратительная язва. Это был мой старый знакомый. С нашей первой встречи многое изменилось. Я уже не был беспомощной жертвой. Сейчас мы ненавидели друг друга, как противники, силы которых равны. Мой инстинкт требовал уничтожить его немедленно. Но рассудок говорил: не убивай, пусть он вернется к своим и скажет им: дверь не заперта, не заперта, пусть все идут туда. Я помирил свою волю и чувства следующим образом: если он поднимется на одну ступеньку выше, я разряжу в него все патроны.
– Ну, двигайся же, сын звериного Вавилона, – шептал я, целясь, – давай сдвинься с места.
Чудовище издало гортанный звук. Но прежде чем оно стронулось с места, раздался выстрел Каффа. Чудище открыло пасть и несколько раз высунуло язык, выражая этим свое презрение и одновременно бессилие. Потом стало отступать – медленно, не поворачиваясь ко мне спиной. Оно уступало каждую ступеньку, как император, который сдает врагу провинцию за провинцией. Когда существо исчезло во тьме, я потребовал объяснений у Батиса:


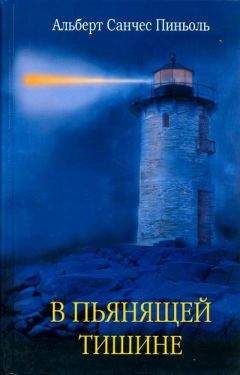
![Альберт Санчес Пиньоль - Золотые века [Рассказы]](/uploads/posts/books/120975/120975.jpg)