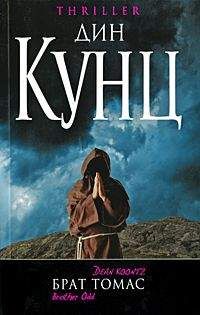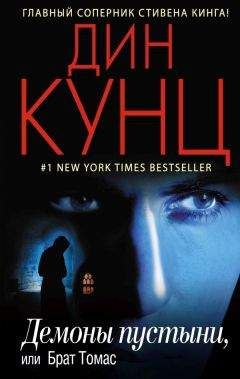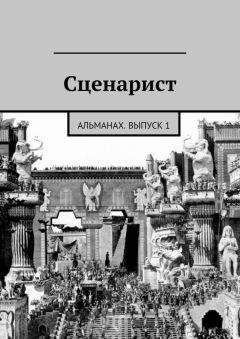Стивен Хантер - Я, Потрошитель
Если вы не отложите в сторону эту книгу, обещаю, что вы узнаете все, что нужно знать о Джеке. Кем он был, как выбирал свои жертвы, как действовал и как ему удалось ускользнуть из самых больших сетей, какие только когда-либо расставляла полиция Большого Лондона. Больше того, вы поверите в подлинность этих слов, ибо я покажу вам, каким образом в моих руках оказались написанные Джеком страницы, куда он скрупулезно записывал все свои деяния. Наконец, я пролью свет на самую загадочную часть всего этого дела – мотив.
Если все это кажется вам чересчур мрачным, я также обещаю в противовес самый романтичный образ – героя. И герой здесь действительно есть, хотя это не я. Увы, далеко не я. Появится человек (со временем), обладающий умом, чтобы понять Джека, изобретательностью, чтобы его выследить, стойкостью, чтобы противостоять ему, и мужеством, чтобы сразиться с ним лицом к лицу. Имеет смысл дождаться встречи с этим доблестным человеком и убедиться в том, что подобные люди существуют не только на страницах грошовых романов ужасов.
Я также включил четыре письма, написанных одной валлийкой, трудившейся на улицах Уайтчепела «падшей женщиной» и, подобно многим, имевшей все основания бояться чудовища Джека. Эти письма предлагают дополнительную точку зрения, отсутствующую в двух основных повествованиях, заполненных исключительно суждениями и взглядами мужчин. Поскольку эта война была направлена на одних только женщин, справедливость требует, чтобы был услышан также и голос женщины. В ходе моего повествования вы увидите, каким образом ко мне попали все эти документы.
Почему я ждал двадцать четыре года, чтобы объединить все это вместе?.. Справедливый вопрос. И он заслуживает честного ответа. Начнем с того, что необходимо принимать в расчет незрелость – мою собственную. Я сам не догадывался, какой же я неискушенный. Поскольку я не имел в достаточной мере опыта и проницательности, было очень легко обмануть меня, навязать мне чужое мнение, купить на внешние прелести, которые на поверку оказывались пустыми, как-то: остроумие, красота, некая не объяснимая словами личная энергетика. Эта сила может быть такой же неприметной, как форма подбородка или разрез глаз; ее можно найти в том, у кого хорошо подвешен язык; она может дать, а может и не дать глубокий ум просто благодаря случайному сочетанию унаследованных черт, что в конце концов дало нам аристократию и королевскую власть, и мы имели возможность убедиться, как замечательно она может работать!
Поэтому я был плохо подготовлен к тому, чтобы взяться за лежащий передо мной труд, я бродил слепо, без цели. То, что я вышел живым из своей единственной встречи с Джеком, величайшее счастье, поверьте, и это никак не связано с героизмом, поскольку я человек вовсе не героический, ни в жизни, ни в мечтах. Я не боготворю ни солдата, ни борца, ни кавалериста (этот Черчилль – ей-богу, сущий невежа)[2], или даже это новшество, авиатора, который способен разве что демонстрировать глупость человечества и смертельную опасность земного тяготения. В то время я еще не знал, что я такое, из чего следует, что я был ничем; теперь я это знаю и именно с этого возвышения могу наконец обозреть данные события.
Итак: я был неискушенным, трудолюбивым, гротескно обаятельным, смышленым в политике (должен добавить, совершенно не знающим женщин, которых я не понимал тогда и не понимаю и по сей день), неутомимым и жадным до славы и успеха, что, как я полагал, принадлежит мне по праву высшего существа. Этот тип Гальтон[3], двоюродный брат Чарльза Дарвина, пространно написал о нас, «высших существах», и хотя я до сих пор еще его не читал, интуитивно уже уяснил, что он имел в виду. Есть также еще один немец[4], чью фамилию я никогда не научусь писать правильно, который также разработал четкую концепцию сверхчеловека. В довершение ко всему у меня была невероятно плодородная мотивация: я должен был бежать от своей ненавистной матери, на чьем содержании жил, под чьей крышей обитал и чье отвращение и разочарование ежедневно испытывал, несмотря на все мои старания отплатить этой злобной женщине той же монетой.
Есть и еще один момент помимо того, что я просто набрался мудрости. Речь идет о моем нынешнем честолюбии. Я замыслил один проект, который, уверен, окажет огромное влияние на мою карьеру. И я не в силах устоять перед таким соблазном – для этого я слишком тщеславен и слаб. Но мой проект связан с делом Джека и тем, что мне о нем известно. В нем задействованы персонажи, ситуации, события, все те поступки, считающиеся «реалистичными», которые я должен упорядочить, пригладить, переиначить и осмыслить.
Поскольку речь идет о многих насильственных смертях, я должен задать себе вопрос: имею ли я право? И для того чтобы ответить на этот вопрос, я должен снова взглянуть на «Осень ножа» и постараться восстановить ее как можно точнее и честнее. Отсюда этот труд, как часть процесса подготовки и изучения себя перед следующим шагом по пути к моему честолюбивому замыслу.
Но, как уже говорил, я доберусь до всего в надлежащее время. Как это было в свое время и со мной, сведения будут доставаться вам нелегко. Это будет трудный путь. Как указывалось на старинных картах: «Берегитесь! Там будут чудовища».
Глава 03
Дневник
11 августа 1888 года (продолжение)
Моя работа еще не была завершена. Я просто не мог остановиться на этом.
Я задрал женщине платье, не всё, а только частично. Я не полосовал и не рубил наобум. В моих движениях не было ни неразборчивости, ни похотливости. Я слишком долго размышлял над этим и намеревался сделать все в точности так, как задумал, вкусить сполна все обещанные удовольствия и в то же время не привлечь к себе внимания чересчур заметными действиями.
Я быстро вспорол смятую белую хлопчатобумажную ткань нижнего белья, которым женщина прикрывала свое тело, обнаружив, что она очень тонкая и легко поддается нажатию лезвия, – и вот обнажилась голая плоть. Она оказалась такой неприглядной, эта плоть… Дряблая, с нетренированными мышцами, вероятно растянутая при рождении ребенка, а то и нескольких. На ней уже появились трещинки и следы распада, и она была мертвенно-холодной на ощупь. Я приставил острие своей замечательной шеффилдской стали, приложил усилие, ощутил сопротивление, надавил сильнее, и наконец кожа, мышцы и подкожные ткани поддались и острие вошло внутрь, затем сделало разрез длиной дюйм или два. Теперь, получив точку опоры и угол, я с силой потянул нож на себя, снова используя острое лезвие против живой плоти, и почувствовал, как оно ее режет. Рукоятка ножа давала изысканные ощущения. Я буквально чувствовал тончайшие изменения ритма, обусловленные тем, что лезвие встречало на своем пути разные ткани. Таким образом продвижение, определяемое двумя противодействующими факторами, привело его от скользкого, изобилующего хрящами, неустойчивого сплетения мелких кишок, подвижных, похожих на липкие сопли – острейший кончик чутко ощущал их зыбкость, – до чего-то более плотного и мясистого, и теперь в работу вступило направляемое моей рукой более широкое и толстое основание, нарушая целостность наружных покровов тела, кожи и скрытых под ней мышц.
Лезвие совершило паломничество через живот Крали к ее пупку. Наблюдать за ним сейчас не было никакой необходимости; я оставил это для других женщин и других ночей. Теперь же мне было достаточно смотреть на то, как вслед за прошедшим лезвием края раны расходились, обнажая то, что находилось внутри, раскрывая черную расселину с крутыми склонами. Крови не было. Она уже вся вытекла; сердце, лишенное топлива, перестало биться, и больше не было напора, заставляющего жидкость вытекать из сосудов. Это был просто разрез, жуткое рассечение плоти, которое причинило бы океан боли, если б дома был кто-нибудь, кто ее заметил бы. Работа была выполнена безукоризненно. Я ощутил некоторую гордость, поскольку мне было любопытно узнать, какой становится после воздействия стали мертвая плоть. Ничего красивого, ни капельки; просто выпотрошенной и изувеченной – одним словом, изуродованной.
Я сделал еще один разрез, получая то странное удовольствие, которое мне приносили эти действия, наслаждаясь работой ножа и своим собственным мастерством и вниманием к мелочам. К этому времени запахи естественных реалий и смерти дали пищу органам обоняния. Это было сумасшедшее зловоние металла, от бронзового мускуса крови до испражнений от пищи, переваренной и превратившейся в кал, готовый исторгнуться из кишок, и до мочи, которая каким-то невообразимым, немыслимым образом разлилась повсюду, как будто я каким-то неловким движением перерезал трубку. Я жадно втянул этот запах. Восхитительно, прямо-таки амброзия. Облачко головокружения затянуло мое сознание, и я смутно почувствовал, что на меня накатывает обморок.