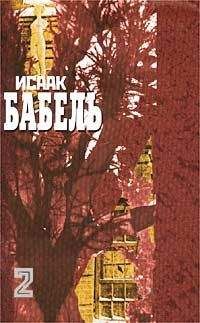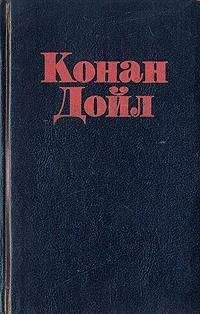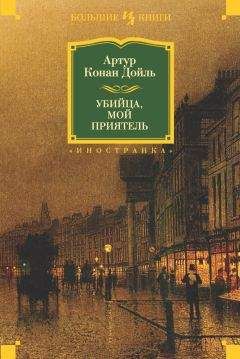Андрей Курков - Приятель покойника (сборник)
Я кивнул. Слово «декамерончик» вызвало у меня улыбку. Как все-таки важно правильно подбирать слова-определения, а если их не хватает – придумывать. «Банкирский декамерончик» – это почти литературный вечер с участием молодых (?) банкиров. Славная идея!..
Но что поделать?
Проблема выбора была снята.
Перед тем как уйти до следующего года, Лена попросила все-таки открыть коробку с ее новогодним подарком. Я открыл и вытащил оттуда «связку» разноцветных носков.
– Это тебе на целый год! – Лена улыбнулась. – А твои дырявые я в следующий раз в форточку выкину!
Оставшись один, я позвонил Марине. Поблагодарил ее за приглашение и сказал, что приду. И услышал радость в ее дыхании.
Теперь надо было купить ей новогодний подарок.
Следующий день я посвятил поиску подарка. Я бродил от киоска к киоску, заходил в большие магазины, внимательно следил за тем, что покупали другие мужчины.
Мною овладело предчувствие новой жизни, спокойной и стабильной. Это было предчувствие грядущего уюта, того, к чему я стремился.
Я еще не знал, что через три месяца маленький Мишка произнесет свое первое слово. Сидя у меня на коленях, он скажет: «Папа!» Все, что он скажет после этого, будет уже не так важно. Объявится бывший одноклассник Дима и поможет «устроить» заработанные покойным Костей двенадцать тысяч долларов под хорошие проценты. И заживем мы с Мариной тихо и по-мещански радостно, встречаясь с новыми знакомыми и избегая старых.
А ключи от своей однокомнатной я отдам Лене, и иногда мы с ней будем болтать по телефону.
Жизнь наладится, и я буду окончательно побежден ею.
Эпилог
Через несколько дней после спокойного домашнего празднования нового года, когда я уже по настоянию Марины перевез свои вещи к ней, пришла почтовая карточка с просьбой срочно заплатить за абонентский ящик. Присмотревшись к штемпелю, я разобрал, что отправили эту карточку с 25-го почтового отделения, и тут же меня словно подбросило. Я вспомнил, как ходил туда и оставил в 331-м ящике конверт с фотографией и наводками. Вспомнил, что в моей однокомнатной еще лежит кулек со всякими мелочами, вытащенными из кармана Костиной куртки, и среди этих мелочей наверняка есть и ключ от абонентского ящика. Быстро собравшись, я съездил к себе, нашел ключ и приехал в почтовое отделение.
В ящике я нашел конверт на Костино имя. Сунул его в карман, зашел в отдел доставки и оплатил ящик на год вперед. Потом по хрустящему снегу прошелся к Андреевской церкви и свернул вниз, на Спуск. Добрел не спеша до кафе на Братской и уже там, уединившись с двойной половинкой за любимым угловым столиком, достал конверт из кармана. В конверте лежала фотография аккуратно подстриженного мужчины лет пятидесяти в костюме с галстуком. Типичный паспортный снимок. На обороте – надпись: «10.01», ресторан «Спадщина» 18.00».
Десятого января я приехал на Подол. Мною овладело странное чувство. Я представлял Костю на моем месте и никак не мог представить. Все в голове перепуталось. Я понимал, что на самом деле это я сейчас нахожусь на его месте, ношу его тапочки, хожу на молочную кухню за детским питанием для его сына… Все перевернулось с ног на голову за последние три месяца. А в этот день словно ожило недавнее прошлое, и я снова засомневался: а вдруг Костя жив? Человек жив, пока кто-то еще не знает о его смерти. Тот, кто бросил этот конверт в абонентский ящик, о Костиной смерти не знал. И вот я подходил к ресторану, выбранному для убийства, которое не произойдет в связи со смертью исполнителя. В самой ситуации было что-то театральное. Мне хотелось посмотреть на человека, которого сегодня не убьют, на человека, который, должно быть, и не догадывается, от каких событий, от каких случайностей зависит его сегодняшний день. Конечно, завтра его могут убить в другом месте и другими руками…
Я пришел в этот уютный подольский ресторанчик пораньше, около половины шестого. Ресторан только открылся после перерыва, и, похоже, официант не ожидал такого раннего клиента.
Он пришел минут через двадцать. Официант усадил его за столик возле небольшой эстрады лицом ко мне.
Возникшая ситуация показалась мне совершенно театральной: пьеса для двух актеров и одного официанта, он же единственный, но невидимый зритель. Чем не новый театральный авангард?
Я внимательно наблюдал за человеком, чья фотография лежала у меня в кармане, за его дрожащими руками, державшими меню. Мне было интересно, знает ли он о нависшей над ним опасности?
Он заметил мои взгляды и тоже посматривал на меня. Я пытался рассмотреть выражение его лица, но неудачное разноцветное освещение зала мешало мне.
Официант принес вино и закуску. Я взял бокал с красным вином в руку, пригубил. Мое ощущение реальности изменилось, теперь ситуация была не театральной, а киношной.
Ему тоже принесли графинчик с водкой и закуску. Официант услужливо наполнил рюмку, манерно сделал шаг назад и застыл на какое-то мгновенье. Он дождался легкого кивка от обслуживаемого клиента и отошел. В этом кивке была многолетняя привычка хозяина жизни. Но во время кивка он смотрел на меня уже по-другому, то ли с презрением, то ли с показным безразличием. Потом, не сводя с меня глаз, он встал из-за стола, сделал два шага в мою сторону и вдруг остановился, схватился рукой за сердце, а взглядом за низкий потолок и упал. На шум выскочил в зал официант, вопросительно глянул на меня.
– «Скорую»! – крикнул я. – «Скорую» вызывайте!
Официант метнулся в подсобку и тут же снова вернулся в зал.
– Уже вызвали! – сказал он, наклоняясь над лежащим.
Я тоже подошел.
– Он мертвый… – тихо, словно сам не веря своим словам, произнес официант. Потом оглянулся на меня, сказал: – Видимо, сердце, – и тут же пожал плечами.
Я снял с вешалки свою куртку и быстро вышел из ресторана.
Было темно, и в темноте продолжал идти снег.
А я спешил к метро, сжимая в руке ключ от абонентского ящика, и, чувствуя в себе убийцу, не ощущал страха.
Не приведи меня в Кенгаракс
Состав несколько раз дернулся и пошел. Колеса не спеша отсчитывали стыки рельсов.
– Вот и тронулись.
– Да, уже едем, – поправил очки Турусов.
– Плетемся! – буркнул Радецкий. – Накладная у тебя, образованный?
– Да.
– Так что же мы все-таки тянем и куда?
– «Груз «ТПСБ-1785» и др.», – медленно и внятно прочел Турусов.
– Эта галиматья мне известна, я тебя как человека знающего спросил! Без сокращения как оно называется?
Турусов пожал плечами.
– Тьфу! Тоже мне профессор! А куда?
– Говорили, что конечный пункт известен машинисту.
– Машинисту?! Так сходи спроси его!
– Но вы же понимаете, что к нему не пройти. – Турусов снова поправил съехавшие на нос очки в роговой оправе.
Радецкий скривил губы и отвернулся к окну. Достал папиросу, размял ее толстыми когтистыми пальцами и загнал в уголок рта под унылые горьковские усы. Чиркнул спичкой и затянулся.
– Ну, если ты, студент, ни хрена не знаешь, то, видать, никто этого не знает тоже. А это к лучшему. Ты-то сам чего в сопровождающие поперся?
– Да так… с друзьями старыми разошелся во взглядах…
– Бежишь?
– В общем, да.
– А что, могут поймать и пришить?
– Что вы, нет!
– Странно. Тогда зачем драпать? Вот я – понятное дело. За мной «хвосты» тянутся, хоть я и не украл, и не завалил никого. А ведь уже двенадцать лет на маршрутах! А какая у меня любовь была!!! У тебя новой сотенной нет?
– Что?
– Сторублевки новенькой, чтоб хрустела, нет у тебя?
– А… нет…
– Жаль. Моя старая истерлась вся, вот-вот рассыплется. Ладно, покажу.
Радецкий вытянул из кармана ватника блокнот, достал свернутую сторублевку, которая действительно была ветхой и потертой, развернул ее и вытащил оттуда фотографию три на четыре белобрысой девчонки.
– Вот какой она тогда была! Ни разу сотку не менял. Самая дорогая мне память. Только надо, видать, новую раздобыть, чтоб Валюху в нее заворачивать. Эх, я б на такую девку и тыщерублевки не пожалел, если б была такая деньжища!
– Да, любовь – это прекрасно… – почти шепотом проговорил Турусов.
– Ох, не люблю я эти сюсюканья интеллигентские! Извини, конечно, но любовь – это не только ночи в шалашах и зажиманья при луне! Это и по морде, если заслужила. А они все этого заслуживают, все подряд! Я Валюху чем чаще лупил, помню, тем любил больше. И она не обижалась, сама говорила, что любая баба этого заслуживает. Эх, и умница была, а всего-то семнадцать ей тогда стукнуло. Мужики так рано не умнеют.
Турусов хотел спать, но первым заговорить об этом было как-то неудобно. Кроме того, он не хотел перебивать несущиеся, как горные реки, размышления Радецкого. Слушать его тоже не хотелось, поэтому приходилось смотреть в окно и ждать, когда же придет время расстилания коек, когда же несколько протяжных зевков закроют родник жизненного опыта, обильно бьющий из прошлого Радецкого.