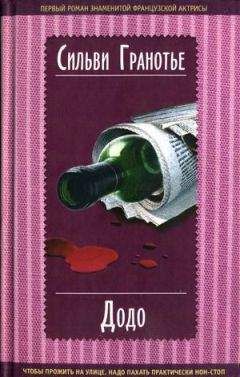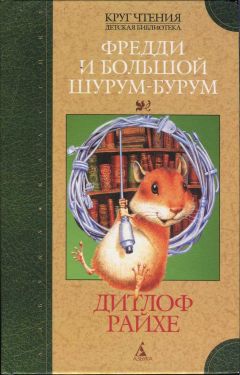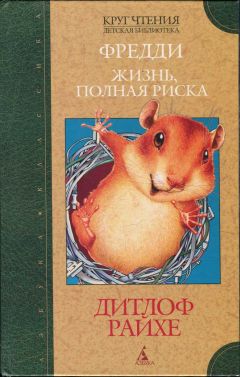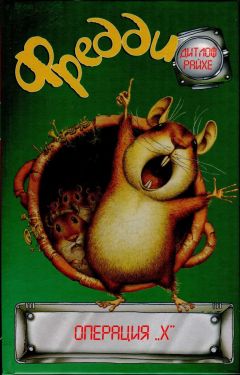Додо - Гранотье Сильви
Он объяснил мне, чего от меня ждет. Я должна убедить себя, что ничего не было. Он взял ключи от квартиры. Он пообещал, что тело исчезнет — он сам об этом позаботится. На некоторое время мы прервем всякое общение. Через две недели я могу вернуться в свой дом.
Я сделала вид, что тревожусь, но только для проформы. Моя трусость была счастлива переложить ответственность на другого.
По словам Хуго, Поль был всего лишь мелким мошенником, который может исчезнуть в любой момент, никого этим не обеспокоив.
И еще он сказал — своим прекрасным серьезным голосом, — что убийство чудовищная вещь, но в данном случае речь идет о законной самозащите, я убила из любви, из любви к нему, и теперь он возьмет на себя свою долю ответственности. И еще он будет молиться за нас обоих. Он проводил меня до стоянки такси. Я уехала на вокзал, и пятнадцать дней меня бросало от спокойствия к ужасу. Мне было необходимо поговорить с ним, поговорить хоть с кем–нибудь. Но я понимала, что Хуго прав, и пятнадцать дней спустя дрожащей рукой я толкнула дверь моей квартиры. Меня ждала полиция.
Меня отвели в полицейский участок для допроса. Я недолго держалась. Полицейский, который допрашивал меня первым, был любезен и очень мягок. Через пять минут после начала беседы я призналась во всем. Во всем, кроме существования Хуго, разумеется. В конце концов, защита Хуго была единственным смыслом моего существования.
— Но ведь он–то и втянул тебя во все это дерьмо? — взвилась Квази.
— А единственное, что полицейский остерегся мне сообщать — это что трупа не было. Хуго сделал все точно так, как обещал. Но я–то этого не знала.
На лицах друзей ясно читалось, в какую оторопь их вогнала столь беспредельная ирония, но эта оторопь быстро обратилась в презрение к моей недогадливости. Хотела б я на них посмотреть на моем месте.
Робер предложил принять по глотку, чтобы я оправилась и промочила горло. Полагаю, в основном он опасался еще одного перерыва в сериале. Я в общем–то была рада паузе, потому как начиная с этого места моя история становилась чертовски запутанной, и я не очень представляла, как ее протолкнуть, даже при том, что мои три раззявы были просто даром небесным в том, что касалось заглатывания любой мути, от ужей до сабель и прочих более–менее заточенных предметов. У меня самой ком стоял в желудке, настолько продолжение было неудобоваримым. Я вцепилась в идею хронологической последовательности — только она могла мне помочь самой разобраться в этой истории, которую я охотно отсекла бы от моей жизни, как отсекают засохшую ветку, и пусть гниет за забором. Я вытрясла из бутылки последний глоток и вспомнила невероятное блаженство, которое испытывала в камере предварительного заключения, сидя вместе с… их лица мгновенно всплыли в памяти, но мне хотелось непременно вспомнить каждое имя, потому что в то время я общалась с людьми, каждый из которых был личностью со своей историей. Что там ни говорят, а кутузка, особенно изнутри — это мощнейшая штука.
— Так тебя выпустили, или что? — Квази прервала ход моих размышлений.
— А ты как думаешь? Что меня поместили в номер люкс, дабы я оправилась от перенесенной травмы?
— А ты еще и заболела? — спросила Салли.
Робер, чувствуя, что я сейчас взорвусь, поспешил вмешаться. Его имя предрасполагало к роли словаря [10]:
— Подумай немного, Салли. Это ужасно — убить кого–то, когда ты к этому не привык. Ты сам меняешься, становишься другим. Тебя это травмирует. Короче, тебе хреново.
— Как убийце Жозетты?
— Ну, ему это, может, нравится.
— Одно другому не мешает. Например, как тому типу, которого ты лапала сегодня утром, Салли, — пояснила Квази. — Ты его травмировала, но может, ему тоже понравилось.
— Что за тип? — напрягся Робер.
— Он сам на меня наткнулся, — с большим достоинством уточнила Салли.
Робер вскочил на ноги:
— Кто? И где это?
Квази вмешалась с многоопытным видом:
— Закрой пасть, Салли, не говори ничего. Нарвешься на взбучку.
Я покрепче вцепилась в вожжи:
— Вы мне сказали, что вы влюбленные, а не пара. А это уже вонючие семейные разборки. Заткнитесь, или сами будете рассказывать вместо меня.
— А чо, реальность — это тоже интересно, — взбунтовалась Квази.
— А камера предварительного заключения — это, по–твоему, не реальность? В камере нас было четверо. Маргарита Бриндуа, которая воровала еду для своих детей, мясо. Я не шучу. Хлеб ей, возможно, и простили бы, но мясо — кого она из себя строит, миллионершу, что ли — марш в тюрьму!.. Хочешь еще реальности? Еще там была Сюзанна Ришпен, обколотая вусмерть, она орала все ночи напролет, потому что ей не давали успокоительных таблеток. А еще Эва Ролен, старая рецидивистка, она воровала вещи из машин.
Салли посчитала на пальцах:
— Трое, как и нас.
— Нет, трое, как три мушкетера, а со мной будет четверо.
— Блин, До, ты это нарочно?
— Ладно, ладно, нас было четверо вместе со мной. Так пойдет? С единственной разницей, что я была довольна тем, что находилась в тюрьме. Мне это казалось справедливым. Остальным это справедливым не казалось, так что им было тяжелее. Вначале, когда меня привели, они на меня глянули — богатая цаца, которая ни черта не соображает. Но я оказалась не нудной. Я никогда не жаловалась, потому что, как уже говорила, была скорее довольна тем, что я в тюрьме, и гордилась, что сумела защитить Хуго. Что ж, мне пришлось рассказать им мою историю, и то, что она оказалась постельной, здорово их позабавило. Они меня успокоили, сказав, что суд к таким историям относится неплохо, считая их чем–то вроде французской культурной традиции. И они же посоветовали не говорить, что я беременна.
— Вот это да! От кого?
— Догадайся.
— Ребенок. Почему ты нам раньше о нем не сказала, До?
— Потому что я от него избавилась, представь себе.
— Вот дерьмо!
— Полностью с тобой согласна, Квази. Я не хотела говорить о нем, потому как знала, что начнутся разборки, но предупреждаю: если хоть кто–то из вас и хоть один–единственный раз о нем заговорит, я плюну на все, потому что это такое дело, то есть, я хочу сказать, это так…
Полная катастрофа. Слезы медленно подымались, и уже затопили горло, слова, дыхание, глаза, но Квази смотрела в сторону и ее «дерьмо» было обращено к жуткому красавчику Жеже, который приближался, спотыкаясь и цепляясь поочередно за каждое дерево на пути — великое чудо, спасшее меня от самого худшего.
Салли не могла двинуться с места, но она и так сидела рядом с Квази. Робер и я встали перед ними щитом.
Я не удивилась тому, что он нашел нас, потому что арабский телефон работает на улице куда лучше, чем все телефонные подстанции города.
— Не приближайся, Жеже. Квази теперь с нами.
Он попытался сфокусировать стеклянный взгляд.
— Кого Квази? — Он осекся, сраженный странной какофонией звуков, которые издал, и повторил, забавляясь: — Кого Квази, ко–ко, ква–ква, хо–хо, — растопырил руки, как птичьи крылья, и притопнул ногой, неуклюже подражая танцору фламенко. Мы наблюдали, как он зашатался, заваливаясь, как пугало у хибары бедняка, но в последний момент ему удалось расположить свою тушку вертикально. Только голова свешивалась. Всё вместе, включая позу, демонстрировало законы гравитации куда лучше, чем Ньютоново яблоко, вот только данное наглядное пособие еще пыталось шутить: — Ну, старая кошелка, опять пришла поплакаться в большую юбку имбецильной мамаши. Или унтер–офицерша и тебя сделала лесбиянкой, ты, вшивая сраная соска. Жалкая развалина, скатертью дорожка. Давай, подымайся!
Квази закрывала лицо пятерней, но сквозь расставленные пальцы могла все видеть. Ее плечи ходили ходуном, как «русские горки», и я уже предвидела мелодраму того же происхождения, когда ей удалось выдавить несколько слов, вроде «ну дает», и я поняла, что она давится от смеха, а поскольку от веселья до умиления расстояние в один пук, мне стало противно, и я отделилась от группы, дабы расчистить путь этой затасканной самке, которую ее экс–бывший заманивал призывами «vamos» [11], так напирая на «с», что едва не задохнулся.