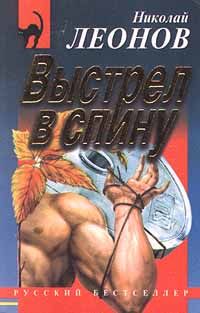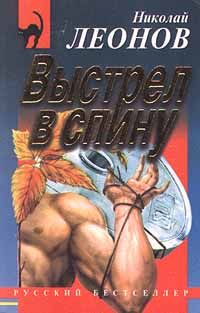Андерс Рослунд - Ячейка 21
Эверт и Свен просто наблюдали: если бы понадобилось вмешаться, на то тут, в аэропорту, есть охранники. Они были там потому, что хотели убедиться, что уже никогда не встретятся с человеком, который избивал молодых женщин. И ни за чем больше.
Пожилой еще прокричал что-то гневное вслед Диме Шмаровозу, а затем направился к Эверту и Свену. Он шел уверенно, зная, кто они и что они тут делают.
Неожиданно легким шагом он приблизился к ним, держа в одной руке портфель, в другой зонтик, приподнял шляпу и жестом поприветствовал их обоих.
…Автомобиль выехал на трассу Е4, которая ведет к северному въезду в Стокгольм. Из-за дождя было плохо видно дорогу, дворники работали в самом быстром режиме, но Свен еще раздумывал, а стоит ли ехать немного медленнее.
Эверт громко вздохнул и включил радио.
Как зовут пожилого в шляпе, Эверт забыл сразу, как только тот назвал себя. Он спокойно стоял рядом с ними, пока остальные пассажиры, спеша и толкаясь, проходили мимо него. Он заговорил, едва Дима Шмаровоз исчез из виду где-то у него за спиной. Объяснил, что он – начальник службы безопасности литовского посольства, а потом предложил угостить их выпивкой. Эверт сказал «Нет, спасибо», потому что устал как черт, но рядом был Свен, и поэтому… «По чашке кофе, – настаивал посольский. – По чашке кофе в баре на втором этаже. Сразу у эскалатора».
Они на секунду задержались в дверях, а потом он указал на столик возле стеклянной стены, выходящей прямо на летное поле. Он сам подошел к стойке и принес три чашки кофе с венскими булочками, поставил на стол и, сев на пластиковый стул лицом к ним, отхлебнул сразу полчашки.
Он хорошо говорил по-английски. С сильным акцентом, но все-таки лучше, чем Эверт и Свен, вместе взятые. Попросил прощения за свое недавнее поведение, сам-то он против рукоприкладства и крика, но иногда это необходимо, и сегодня как раз такой случай.
Потом он их поблагодарил: это был длинный и путаный поток слов от имени литовского народа.
Он сидел и, спокойно глядя им в глаза, говорил, как был поражен известием о своем коллеге по работе в посольстве, Дмитрии Симаите – так его на самом деле звали, как болезненно это обстоятельство для страны, которая только-только поднимает голову после многолетнего ига. Он искал у них сочувствия, которое заставило бы их замолчать всю эту историю, тем более что они сами видели, как Дима Шмаровоз был выслан из страны, так что…
Эверт Гренс и Свен Сундквист вежливо поблагодарили за кофе и венские булочки и, перед тем как встать из-за стола и отправиться восвояси, пояснили, что расследования такого рода «замолчать» не представляется возможным, по крайней мере с их помощью, так что тут уж всякие разговоры излишни.
Автомагнитола разрывалась от музыки, и Эверт от нее чертовски устал. У него была с собой кассета.
– Свен!
– Да?
– Ты слушаешь?
– Да.
– Ну там же нет ничего приличного.
– Я жду, когда скажут про пробки. Нам скоро сворачивать.
– Да ладно. Давай вот это послушаем.
Гренс оборвал на полуслове диктора стокгольмского радио и включил кассету Сив Мальмквист, которую сам записал. Ее голос убаюкал его, и он снова стал думать.
Литовец из посольства покраснел, когда они встали из-за столика в кафе с видом на взлетную полосу. Он упросил их остаться еще хотя бы на минуту и просто его выслушать. Говоря это, он выглядел таким уставшим, что они согласились, и, переглянувшись, присели снова. Его жидкие волосы, спускавшиеся на лоб, взмокли от пота. Он искал их руки, чтобы дотронуться до них своими короткими, липкими от пота пальцами, привлечь внимание.
– Сотни тысяч молодых женщин, – сказал он, – из Восточной Европы. Сотни тысяч жизней! Они становятся секс-рабынями на Западе. И пока мы тут разговариваем, их стало еще больше – с каждой секундой. Наши девочки! Наши девочки.
Он с силой сжал их руки, его голос дрогнул.
– Всему виной безработица, – продолжал он. – Уболтать девочку совсем не трудно. Что вы думаете? Они же молодые, им нужна работа, благосостояние, будущее наконец! А эти сволочи сулят им златые горы. Обещают, развращают и запирают потом в квартире с электронным замком, как тех двух девушек на улице Вёлунда. Это же их адрес, не так ли? А люди, которые их заманили и продали, получают свои тысячные купюры и исчезают! Вы понимаете – исчезают, ни ответа, ни привета, ни расследования, ничего! Никакого риска!
Посольский внезапно отпустил их руки. Эверт зло покосился на Свена, хотел было возразить, но тут литовец прижал ладони к щекам и спросил:
– Вы понимаете? Вы хоть понимаете, что происходит? В моей Литве идет серьезная борьба с преступностью. Ну, наркотики там, как обычно. Много судебных дел, много обвинительных приговоров, большие сроки… Но за торговлю юными девушками – ничего! Это абсолютно безопасно. В Литве сутенерство практически ненаказуемо. Ни судов по таким делам, ни наказаний. Я вижу, что делают с нашими детьми. Я плачу вместе с ними. Но я ничего не могу поделать. Вы действительно понимаете, о чем речь?
Они подъезжали к Северной заставе.
Эверт отогнал от себя воспоминание о нелепом человечке со шляпой и портфелем, который умолял его о понимании. Вокруг длинными рядами стояли мокрые от дождя автомобили. Свет фонарей и фар преломлялся в тысячах капель воды. Эверт прикинул, что в пробке застряла по крайней мере сотня машин, а это значит, что им придется тут сидеть минимум десять минут. Свен был вне себя и ругался по-черному, что случалось с ним редко. Они и так опаздывали, а теперь опоздают еще больше.
Эверт откинулся на своем сиденье и прикрутил звук.
Ты бросил меня впервые,
И я ушла домой.
В шезлонге прорыдала
Весь вечер напролет…
Звучал ее голос. Под него не слышны были и ругательства Свена, и гудки каких-то нетерпеливых идиотов. Эверт перенесся в те далекие дни, когда все казалось таким простым и понятным, как на черно-белых фотографиях той поры. Да, тогда – это была жизнь. И столько времени оставалось впереди. Он взглянул на пустую коробку из-под кассеты, которую все еще держал в руках. «Слишком поздно одумается грешник», 1964, original «Today's teadrops». На коробке была фотография Сив – он сам снял ее, когда случайно увидел в парке, она тогда еще ему подмигнула и улыбнулась прямо в камеру. Он посмотрел на список песен. Каждую он сам выбрал, записал и вывел название на вкладыше.
Он слушал Сив, а сам не мог забыть коротышку из посольства и его отчаяние. Как только он отпустил их руки, они со Свеном немедленно поблагодарили его за беседу и буквально выбежали из кафе. Но он окликнул их, попросил подождать.
Потом он шел между ними, пока они спускались на первый этаж, и говорил, что хорошо знал Лидию Граяускас и ее отца. Что он приехал в Арланду не столько для того, чтобы убедиться, что Дмитрий Симаит попал на тот самолет, на котором должен был улететь, сколько из чувства уважения и долга к покойному отцу девушки. Он помолчал немного, а когда они уже дошли до выхода, возобновил свой рассказ о человеке, которого посадили в тюрьму и разлучили с семьей, потому что он из гордости повесил литовский флаг не там, где следовало. А ведь он служил в армии. Его, естественно, тут же уволили. И потом, спустя несколько лет после возвращения из тюрьмы, его снова обвинили – на этот раз в антигосударственной деятельности. Он с тремя своими бывшими сослуживцами был к тому же обвинен в краже и торговле оружием.
Затем служащий из посольства как-то резко прервал свое повествование о несчастной судьбе юной девушки, пожал им обоим руки и исчез за чемоданной очередью, змеящейся около стойки регистрации. Эверт и Свен долго смотрели ему вслед. Было такое чувство, что именно за этим он и приходил сюда – чтобы рассказать двум шведским полицейским о том, что его самого трогало очень сильно, – о Лидии Граяускас.
Эверт Гренс на мгновение перевел взгляд с мерцающей магнитолы на очередь из мокрых автомобилей. Все по-прежнему, никто не сдвинулся с места. Свен беспокойно ерзал на водительском сиденье. Он легонько нажал на педаль газа, мотор заурчал громче.
– Эверт, мы не успеваем.
– Не сейчас. Я слушаю, Свен.
– Я обещал. В который раз…
Свену Сундквисту шел сорок второй год. Утром он вышел из дома, когда Анита и Йонас еще спали. У них сегодня семейное торжество, так что он должен был еще к ланчу вернуться в свой дом на Густавовой горе. Он взял отгул на всю вторую половину дня, потому что по крайней мере в дни рождения непременно хотел быть рядом с женщиной, которую любил еще с гимназии, сидеть возле Йонаса и пожимать его ручонку…
Они пытались завести ребенка почти пятнадцать лет.
Они рано решили жить вместе. И ничего не получалось. Анита беременела трижды. Первенец родился семимесячным. Мертвым. Когда ей вызвали искусственно схватки, она металась от боли по больничной койке, кричала, а потом… потом плакала у него на плече, глядя на мертвую девочку. И так было еще два раза. Маленькие сердечки их детей внезапно останавливались.