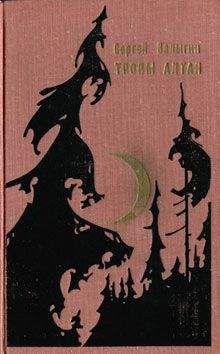Леонид Бершидский - Дьявольские трели, или Испытание Страдивари
— Девушку зовут Анечка Ли, — быстро говорит он. На лице банкира — раздраженная гримаса: он делает что-то неприятное, но, как ему кажется, необходимое. — Не Анна, а именно Анечка. Моя хорошая знакомая. Ей, как и мне, явно понравилась игра Иванова в тот вечер. Камера, которая это записала, установлена у ее подъезда. Если вы заметили, Иванов вышел из машины без скрипки. Подозреваю, что этот идиот оставил ее в машине. Музыканты — вообще удивительные растяпы. Вечно забывают дорогие скрипки то в поезде, то в такси — правда, в большинстве случаев им их возвращают.
Иван слушает Константинова с открытым ртом. Он ожидал от встречи чего угодно, только не этого. Предправления «Госпромбанка» внезапно решил продемонстрировать ему свои рога? Ради чего? Советский фильм про начальников обернулся мелодрамой. Или даже… «Ассой» какой-то.
— Я вижу, вас удивляет моя откровенность. На самом деле я навел про вас справки. Вы работали в «АА-Банке», вами были довольны, вы всегда соблюдали конфиденциальность клиентов. Недавно была какая-то история с картинами в Америке, и там вы проявили себя с самой лучшей стороны — в том числе как человек не болтливый. Я решил, что не особенно рискую, показывая вам эти записи. А вот если бы вы пошли в ваших поисках по ложному следу, риск бы появился.
— Алексей Львович, если Иванов оставил скрипку в машине, та же самая камера записала и, скажем так, ее изъятие из машины, — Штарк решает не обсуждать Анечку Ли: теперь эта часть истории вызывает гораздо меньше вопросов.
— Это было бы логично. Но нет: камеру, похоже, заклеили непрозрачным скотчем, прежде чем вскрыть машину. Причем всего через десять минут после сцены, которую вы только что наблюдали. Дальше там одна чернота.
— То есть вы не знаете, кто взял скрипку, но подозреваете, что Иванов повесил этот грех на вас, потому что у вас был повод ему мстить?
— Именно так.
Штарк вспоминает вчерашний рассказ Иноземцева: «невменяемый» Боб, вызволенный из полиции, говорил товарищу, что знает, кто взял его скрипку. Наверняка Иноземцев изложил то же самое и Константинову, а банкир сделал свои выводы. Вполне, кстати, резонные.
— Я бы хотел поговорить с… госпожой Ли. — Иван не решается назвать неверную пассию Константинова Анечкой.
— Я уже говорил с ней. Она утверждает, что не знает ничего ни про Иванова, ни про скрипку.
— Возможно, я смогу все-таки что-то у нее узнать, — настаивает Штарк.
— Возможно. Я даже дам вам ее телефон — тот, который у меня есть, — но должен вам сказать, что она сменила номер и не появляется в своей квартире. По моим сведениям, она сейчас в Лондоне, и Иванова рядом нет.
А зачем же тогда люди из службы безопасности «Госпромбанка» задавали Дорфману вопросы про Анечку? Этот вопрос почти слетает у Ивана с губ, но — только почти. Вряд ли Константинов что-то еще ему расскажет, ни к чему его дразнить.
— Так вот, Иван Антонович, — продолжает предправления. — Вполне вероятно, вы сумеете разыскать Иванова. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Если вы найдете его, передайте ему, пожалуйста, что я не крал его инструмент и что я на него не в обиде. И вообще, счастлив буду помочь его сольной карьере, а возрождение квартета меня очень бы порадовало. Хорошо? И если в Нью-Йорке — его скрипка, я готов способствовать ее возвращению. Ну, если возникнут какие-нибудь трудности.
— Хорошо, Алексей Львович. Я ему с удовольствием все это передам. Надеюсь только, что вы никого не отрядите за мной следить. Потому что так я точно ничего не найду.
— Если я вам пообещаю этого не делать, вы все равно будете сомневаться… Вот вам моя визитка, сейчас напишу на ней сотовый. Звоните в любое время, если что.
— А можно, Алексей Львович, мне те записи из клуба?
— Сейчас вам сделают копию.
Написав на визитке свой номер, Константинов поднимается из-за стола. Он все сказал.
Отвечая на вялое государственное рукопожатие банкира, Штарк вполне отдает себе отчет, что выяснил много ненужного, но ни на шаг не приблизился к решению задачи, которую поручил ему Молинари. И все равно придется звонить Тому: без его помощи дальше будет трудно.
Шер, Believe
Лондон, 2013
Вот уже два месяца Анечка живет под мягким арестом в неброском особнячке в Излингтоне. Не самый модный район Лондона, но, видимо, решено, что в модных ей лучше не появляться. Анечке позволено выходить из дома — она и выходит в те немногочисленные окрестные магазины, в которых может что-то для нее найтись: в итальянскую лавку деликатесов «Монте», в паб (обычно к «Датскому королю» — здесь малолюдно, и бармен, уже не спрашивая, наливает ей сидр, пиво она не пьет). Побывала в обоих местных приличных театрах. Иногда Анечка добирается до блошиного рынка в Эйнджел-аркаде. Тогда за ней на корректном расстоянии, но не скрываясь, ходит неприметно одетый высокий мужчина. Это понятно: рынок слишком близко к метро, и в нем перестанет работать GPS-приемник на браслете, который Анечке нельзя снимать с лодыжки. Такой надевают приговоренным к домашнему аресту.
Анечкино преступление неподсудно, но очень серьезно. Она догадывалась, что Константинов не спустит ей измены. Думала, что будет как-то мстить, отлучит от денег, может, выгонит из квартиры. Явственно представляла себе даже сцену с побоями: в постели Константинов иногда с явным удовольствием делал ей больно. Она и сама подталкивала его к этому: показывала, что ей нравится.
Анечка привыкла подыгрывать мужчинам. Еще в Ташкенте, где она выросла, отец-кореец внушил ей, что потеря самообладания — это постыдная потеря лица. «Тот, кто кричит, навлекает на себя позор, — говорил он. — Такой человек проиграл спор, уже когда открыл рот». Анечка поняла его по-своему. Если она будет предугадывать, чего от нее хотят, и хотеть того же, никогда не будет повода для ссор. Покорность давалась ей легко.
В Москве, куда она перебралась в девятнадцать, намереваясь то ли работать моделью, то ли куда-нибудь поступать, вроде бы ценились сила и агрессия, а не покорность. Но Анечка не видела никакого смысла менять свои правила: она нравилась мужчинам больше, чем местные женщины. Она поддавалась с улыбкой. Стоило лишь немного потерпеть, и то, что поначалу вызывало отвращение или гнев, начинало доставлять удовольствие. А еще Анечка умела не жалеть о потерях: просто представляла себе, что утраченного никогда у нее и не было.
Такая должна была достаться самому властному самцу, и цепочка «состоявшихся», как говорили в Москве, любовников с неизбежностью привела Анечку к Константинову. Он был здесь царем горы.
До сих пор ей удавалось избежать эксцессов при расставаниях. Как только у нее возникала соперница, она мягко передавала ей мужчину: у нее всегда был наготове новый воздыхатель. Если соперница не появлялась сама, Анечка аккуратно знакомила надоевшего любовника с кем-то из подруг. Она ни с кем не ссорилась, на ее вечеринки охотно ходили — в том числе и бывшие с новыми подругами.
Константинов был старше ее прежних московских мужчин, он прожил с женой почти тридцать лет — со студенческих времен, и Анечка сразу поняла, что важно не представлять опасности для жены. Людмила Павловна, поначалу готовившаяся драться за мужа или хотя бы за свою долю имущества, если до этого дойдет, скоро с удивлением обнаружила, что Анечка не соперничает с ней и даже ищет ее общества. Что она отлично умеет слушать и приятна во всех отношениях. «У корейцев, только у обеспеченных, конечно, было раньше принято иметь по нескольку жен, — рассказала как-то Анечка своей новой подруге. — Младшая жена уважала старшую, называла ее сестрой. Советовалась, когда было нужно. И в доме была гармония». Людмила Павловна не знала и знать не хотела, что полигамия в Корее была ответом на монгольское завоевание, после которого в стране осталось слишком мало мужчин. На Руси такое прагматичное решение проблемы то ли не нашли, то ли отвергли, вот и Константиновой претил чуждый вариант. Однако она догадывалась, что по-другому будет хуже, и принимала Анечку в качестве «младшей жены».
Кореянка сжилась со своей ролью и знала, что из нее нельзя выходить: это поставило бы под угрозу все Анечкины привычки, заставило бы суетиться, как-то направлять свою жизнь. И все-таки нечто росло в ней все эти семь московских лет, начало расти еще до Константинова, — то ли злость, то ли просто недовольство собой. Анечка Ли чувствовала себя Шалтаем-болтаем, сидящим на стене. Вот-вот упадет, и сердце у всех вокруг ухнет в пятки. Но она уцелеет и просто пойдет своей дорогой.
Получилось иначе.
Сутки после ухода Иванова она не выходила из дома. Завернулась в плед, листала журналы, щелкала пультом, прыгая с канала на канал. Наконец, к вечеру собрала волю в кулак и уложила в чемодан любимые вещи. Лучше было уйти, не дожидаясь изгнания. Перестав избегать решений, она все еще остерегалась конфронтаций. Но, собравшись, вдруг поняла, что не продумала дальнейшую цепочку событий. Куда, собственно, она пойдет? Снимет номер в гостинице? Уж точно не напросится ни к кому из подруг: ни разговоров, ни неизбежного бабского сочувствия совсем не хотелось. Позвонить кому-нибудь из прежних мужчин? Те, конечно, приютят, помогут и не станут расспрашивать. Но одна только мысль о любом из них вызывала у Анечки раздражение и скуку. Не для того она бросает Константинова, чтобы сделать шаг назад.