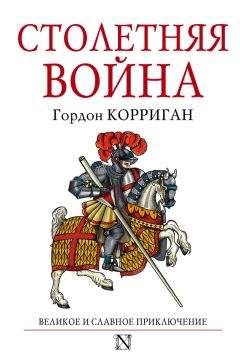Гордон Томас - Охотники за человеческими органами
Сопровождающий Мортона что-то шепнул остальным, они быстро взглянули на Мортона и отошли от кровати. Он медленно двинулся вперед, следя за тем, чтобы не задеть провода на полу и красную тележку, нижняя полка которой была заставлена приборами и лекарствами. Он чувствовал их раздражение — привычное нежелание принять поражение. Мортон взглянул сверху вниз на Кроуза.
— Он почти умер, — пробормотал врач.
Мортон посмотрел на экран: сигналы шли медленнее и слабее. Он повернулся к врачу.
— Пожалуйста, оставьте меня с ним наедине.
Врач отступил назад, туда, где стояли Мюллер и остальные, тихонько переговариваясь друг с другом. Мортон догадывался, что где-то в глубине души все они знали, что смотрят на свой собственный неизбежный финал.
Он склонился к Кроузу.
— Вы слышите меня?
Горло Кроуза дрогнуло, но с губ не сорвалось ни звука. Мортон наклонился ниже и еще тише произнес:
— Это очень важно, чтобы вы сказали мне сейчас правду, герр Кроуз. — Он взглянул на монитор: сигналы двигались очень неуверенно. — Где вам была сделана трансплантация? — Их лица почти касались друг друга; на мгновение Мортон увидел, как что-то промелькнуло в глазах Кроуза. Потом они закрылись. — Имя, герр Кроуз. Только имя.
Слабый звук сорвался с губ Кроуза.
— Ромер. Вы когда-нибудь слышали о Густаве Ромере?
Глаза Кроуза резко распахнулись.
— Если слышали, просто кивните.
Кроуз издал слабый, придушенный звук:
— Нн…
Мортон придвинул ухо к запекшимся губам Кроуза. Тот издал какой-то звук, еще слабее первого. Сигналы на мониторе стали еще беспорядочнее. Красный огонек замигал над экраном. Когда по монитору пошла прямая непрерывная линия, вся команда медиков вернулась к кровати. Огонек больше не мигал.
— Надеюсь, вы отправили его туда счастливым — туда, где он сейчас, — сказал врач.
— Я так и не смог ничего узнать, — пробормотал Мортон, отворачиваясь, когда сестра мягким движением прикрыла Кроузу глаза.
Пытался ли Кроуз сказать, что не знал Густава Ромера? Или что-то другое?
Глава 10
Хотя было всего около десяти вечера, ресторан оказался в их полном распоряжении — Мадам уже забыла, как рано шведы ужинают. Секунду назад пара, сидевшая на другом конце зала, тихо, как молящиеся в церкви, поднялась из-за своего освещенного свечами столика.
— Мне нужно больше чем полчаса с доктором Крамером, — сказала она, вытирая рот салфеткой.
— Это просто невозможно, Мадам, — вздохнул граф Олаф Линдман. — Даже будучи директором Нобелевского фонда, я все равно связан расписанием. Без него церемонии присуждения премий превратятся в хаос. И так уже с каждым годом ими все труднее управлять.
Он видел, как метрдотель, выглядывающий из-за двери в служебное помещение, улыбается бесстрастной ресторанной улыбкой: ему уже скормили хорошие чаевые за лучшую кабинку в лучшем месте зала. Когда Олаф в первый раз ужинал здесь с Мадам, точно такие же чаевые обеспечили этот же столик.
Он протянул костлявую руку к кофейнику, который оставил официант.
— Еще кофе?
Она покачала головой.
— Но я выкурю сигару.
Он достал из внутреннего кармана маленький серебряный портсигар, вытащил тонкую кубинскую сигару, зажег ее кончик, а потом передал ей, одновременно быстрым движением головы остановив приближающегося официанта — не хотелось отказывать себе в этом удовольствии. Молча он наблюдал, как она курит.
Это был первый из их личных ритуалов, которому она научила его. Другой заключался в том, чтобы обращаться к ней, называя ее только Мадам. Он ухитрялся придавать этому слову особую ласку. Встреча с ней была похожа на чудесную пору бабьего лета — и хотя оно запоздало, в конце концов все же пришло. Тогда ему казалось, что он уже ничего не ждет от жизни, храня верность памяти Илзы. Прошло десять лет со дня смерти его жены, когда он встретил Мадам и сказал себе, что это начало нового рассвета — со своим особым звучанием и цветом чистой радости. Он понимал, что до сих пор был неизлечимым романтиком и даже на шестидесятом году жизни все еще готов ждать, когда Мадам примет его предложение руки и сердца. Он надеялся на это, как надеемся мы все, когда любим. С тех пор от нее не было почти никаких известий; подарки на дни рождения и на Рождество — только и всего. Тем большую радость доставил ее звонок из Малибу, пусть даже ей, как обычно, что-то понадобилось от него. Совсем небольшая плата за вечер, проведенный с нею. Она была явно разочарована, не получив побольше времени для беседы с доктором Крамером.
— Я скучал по вам, — сказал он, закрывая портсигар и кладя его обратно в карман.
— Я тоже скучала. — Она смотрела, как официант улыбается той особой улыбкой, которая, как обычно надеются все слуги, оставит их лица в забывчивой памяти клиентов. Она взглянула прямо ему в глаза. — Скажите мне правду, Олаф, вы в самом деле пытались? Я имею в виду, действительно как следует?
— Даю слово.
— И вы хотите сказать, я никак не смогу подольше поговорить с доктором Крамером?
— Мне очень жаль, но это так, — вздохнул он.
Мадам дернула плечом. Нетерпение? Смирение? Он не смог определить. Слишком многого в ней не знал. И очень многое хотел бы понять.
Мадам продолжала изучающе разглядывать его. Он вел себя как старик, мечтающий о наступлении нового дня, чтобы просто прожить его. От одной мысли о том, чтобы делить с ним постель, ее начинало тошнить. Это изможденное тело с отвислым брюшком и мертвенно-белой кожей вызывало у нее отвращение. А по утрам придется терпеть прикосновение его небритого подбородка, если ему вздумается запечатлеть первый утренний поцелуй на ее губах. Она не только почувствует его колючую щетину, но ощутит его несвежее дыхание, увидит эти глаза в красных прожилках, уставленные на нее, и его волосы, не тщательно причесанные, как сейчас, а серые и всклокоченные. На мгновение ей захотелось закрыть глаза и уши, чтобы не смотреть на него и не слышать этот робкий дрожащий голос. Но она давным-давно научилась скрывать свои чувства.
Мадам коснулась его руки.
— Олаф, дорогой, вы уверены, что никак не можете изменить расписание? Мне так нужно, чтобы вы сделали это для меня! — Ей нелегко было играть роль женщины, которой нужна помощь.
Он снова вздохнул.
— Мне жаль, но не могу.
Ее глаза не отрывались от него. При свете свечи было трудно понять, о чем она думает. Она выглядела точно так же, как в то время, когда он сделал ей предложение. Это произошло после смерти Крэйтона, когда он рассудил, что уже прошло достаточно времени и она справилась со своим горем. И тогда, так же, как сейчас, он молча сидел за столом напротив нее и чувствовал себя неуверенным школьником.
— Разумеется, я разочарована, Олаф, — сказала она после долгой паузы. — И даже удивлена. Мне казалось, я что-нибудь да значу для вас, чтобы сделать для меня хотя бы такую малость. Очевидно, это не так.
— Нет, нет. Вы очень много значите для меня. Очень, очень много. Пожалуйста, поверьте мне!
— Когда вы так говорите, я хочу верить.
— Все, что угодно, Мадам, я сделаю, и сделаю с удовольствием. Но изменить нобелевский график невозможно. Даже Его Величеству это не по силам! — Он слабо улыбнулся. — Даже самому Господу Богу.
Он замолчал, понимая, что она сейчас произнесет свой приговор.
— Прекрасно, Олаф. Не можете, значит, не можете. Решение принимать вам, и вы его приняли. Я разочарована — и в немалой степени — потому что столкнулась с такой вашей чертой, которой совершенно в вас не подозревала. Мне не нравится упрямство в ком бы то ни было, но особенно в мужчине. Это не свидетельствует о широте души. И я этого не люблю.
— Мадам, пожалуйста! — взмолился он. — Вы же знаете, я сделал бы для вас все, что от меня зависит. Но это не в моей власти.
Она выпрямилась и, казалось, выбросила весь разговор из головы. Затушила остаток сигары и оттолкнула пепельницу на край алой скатерти.
— Я надеюсь, вы сумели позаботиться о том, чтобы Нилс сказал ей? Уж это по крайней мере никак не повлияет на ваш график.
— Да-да, конечно! — Он кивнул, желая загладить свою вину. — Я велел ему сделать все точно так, как вы просили. Миссис Крэйтон сейчас уже знает, что у вас будет личная встреча с доктором Крамером.
Он заметил, как что-то промелькнуло в глазах Мадам и тут же исчезло, и прежде чем она заговорила, пожалел, что выбрал такое выражение.
— Я уже говорила вам, Олаф, что не люблю, когда вы так называете ее. — Это было произнесено так, словно он коснулся их общей боли.
— Пожалуйста, простите меня за бестактность. — Он на мгновение просто забыл, как глубоко эти женщины ненавидели друг друга. Присутствие их обеих на нобелевской церемонии потребует чрезвычайной осторожности.