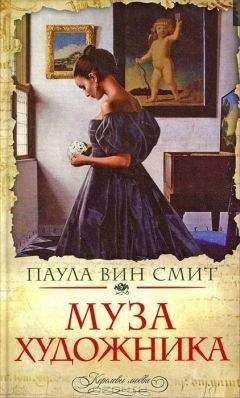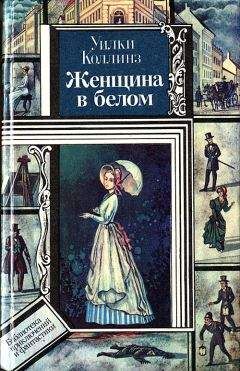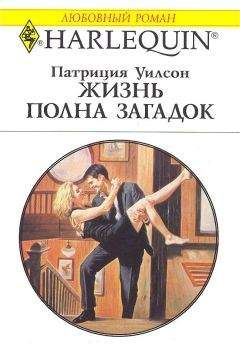Джеймс Уилсон - Игра с тенью
5. Какие ужасные были ночлег и еда.
6. Какие прекрасные были ночлег и еда.
7. Как мне было наплевать на все вышеперечисленное, потому что со мной был великий гений, а я был здоровый и беззаботный молодой человек.
8. Трезвый Тернер очень молчалив.
9. Пьяный Тернер очень буен.
Боюсь, не могу представить Вам длинные мемуары, потому что страдаю от ревматических болей в руках (это письмо пишет под диктовку моя многострадальная жена); и в последнее время я почти не выезжаю. Однако друзья любезно навещают меня, и, если Вы сочтете, что подобный визит стоит Вашего времени и затрат, я буду рад встретить Вас как друга и рассказать Вам все, что помню.
Искренне Ваш
Майкл Гаджен
XIII
Я уверена, что Мальборо-хаус далеко не самый великолепный дворец в мире; это простое длинное красно-кирпичное здание в стиле палладио стоит, немного отступив от Пэлл-Мэлл, будто стесняется показать свой неброский фасад в такой знатной компании. А теперь, когда первый этаж превратился в галерею, там всегда столько людей, что здание больше напоминает железнодорожный вокзал, чем частную резиденцию. Но все же это первый дворец, в котором я побывала, и, когда мы прошли по длинному крытому коридору в высокий зал (такой большой, что Дженни Линд выступала здесь перед сотнями слушателей) и заплатили шиллинг за путеводитель, я не могла не подумать о том, как он отличается от дома, в котором Тернер провел свои последние годы и в котором я впервые увидела одну из его картин.
Возможно, и Уолтера занимала подобная мысль, потому что всю дорогу он был необычно молчалив, а когда мы пришли, огляделся почти с изумлением, словно сравнивая дворец и место своего последнего приключения. Грязная улочка, на которой родился Тернер, по расстоянию была ближе к Мальборо-хаус, чем коттедж, где он умер, но отличалась от дворца еще сильнее.
Потом мы дошли до цели, и все эти мысли и расчеты сразу были забыты. Мы оба, конечно, уже видели отдельных Тернеров, но никогда — это первая его публичная посмертная выставка — больше трех десятков сразу. Нас встретили невероятно сияющие краски — куда ярче, чем я считала возможным в живописи. Красные, оранжевые и желтые цвета, жаркие и буйные, как горящие угли, рвались со стен, неожиданно делая даже самые яркие предметы вокруг — зеленое платье какой-то женщины, огромную картину с изображением Бленхеймской битвы над камином — унылыми и безжизненными. Картины казались куда более реальными, чем глядящая на них толпа или само здание — словно мы застряли в пещере Платона, и это не плоские куски холста, висящие на стенах, а дыры в скале, сквозь которые можно увидеть невообразимый мир снаружи.
На Уолтера они подействовали сразу, и впечатление проявилось так выразительно, что я пожалела об отсутствии возможности это запечатлеть — так можно бы доказать силу искусства самому закоренелому скептику. Он замер и выпрямился, будто с него внезапно сняли огромную ношу; губы его изогнулись в легкой улыбке, а кожа на лбу натянулась, когда он изумленно и радостно поднял брови. Он не отрывал взгляда от квадратного полотна на противоположной стене: там смутная белая фигура возникала из дыма и пламени бешено горящего костра. С того места, где мы стояли, подробнее разглядеть картину было невозможно; но вместо того, чтобы подойти ближе (что было сложно из-за скопления публики), Уолтер оставался на месте, словно его не интересовал сюжет и ему было достаточно, как кошке на солнце, греться в сиянии цвета. Я немного подождала его, но так как он, похоже, двигаться не собирался, дальше отправилась смотреть самостоятельно.
Впечатления следующего получаса столь сильны и противоречивы, что я постараюсь изложить их здесь в деталях, прежде чем они рассыплются блестящей путаницей. На выставке было больше тридцати картин, и первое, что бросалось в глаза, — их удивительное разнообразие. Здесь был пейзаж, который я всегда связывала с Тернером, — «Вид на Лондон из Гринвич-парка», но оригинал демонстрировал яркое великолепие, не заметное из нашей гравюры; а жуткая картина крошечного коттеджа, попавшего под горную лавину и раздавленного обвалом ледяных обломков, вывороченных деревьев и гигантской скалой (нарисованной с такой яростью, что краска легла густо и шероховато, как цемент), напомнила об ужасе, возникшем в моей душе при виде картины из дома миссис Бут. Почти все остальное меня удивило. Тут был великолепный морской пейзаж, на котором далекие корабли разворачивались по ветру, — если не видеть угрожающих волн, которые собрались в правом нижнем углу, грозя перелиться за раму и задеть ноги зрителей, его можно принять за работу кого-то из голландских мастеров; был тут и великолепный классический пейзаж, полный медового света, и изысканная гора в окружении гневных туч. Самое сильное впечатление производили дикие завитки краски вроде тех, что так захватили Уолтера. В них чистый цвет словно рвался на свободу, отделяясь от формы, как душа покидает тело, поэтому трудно было даже разобрать сюжет.
Мне думается, что большинство из тех, кто увидит такое изобилие и разнообразие, с трудом поверит, что это все сделано одной рукой. Во всяком случае, именно об этом думала я во время своей экскурсии. Только рассмотрев три-четыре картины вблизи, я поняла — внезапно, как замечаешь наконец долгий настойчивый звук вроде лая собаки вдали, — что между ними действительно было семейное сходство, не в очевидном подобии стиля, но в некоторых повторяющихся особенностях и странностях. Что они означают и означают ли они что-нибудь вообще, я до сих пор не знаю; но они внушили мне неотвязную мысль, что это какое-то зашифрованное послание, и нужен правильный шифр, чтобы его разгадать.
Первая картина, в которую я всмотрелась (просто потому, что она была ближе всего), изображала сверкающую золотом историческую сцену, и с первого взгляда я могла бы приписать ее Клоду. Из-за возбуждения я не запомнила точное название, но темой было падение Карфагена. Зритель словно располагался в нижнем левом углу картины — возможно, при входе в большой дворец, потому что передняя часть в тени. Прямо перед ним, как мусор, вынесенный на берег прибоем, лежала куча самых разных предметов: горка фруктов; знамя с гербом и венок увядших цветов; брошенные плащи и оружие; странный коричневый предмет, с выступом сверху, похожий на бакен с цепью, но если подумать пару секунд, он мог быть и чем-то из живой природы, вроде огромного спрута или внутреннего органа зверя. Позади видна была узкая набережная, а потом сверкающая полоска воды, окаймленная на расстоянии проступающими сквозь дымку рядами мачт, которые тянулись до горизонта. Над ними — почти в центре холста, только чуть-чуть смещенное влево — сияло пылающее солнце, и оно наполняло небо таким ярким сиянием, что оно жжет глаза всем, кто на него посмотрит.
По сторонам гавани, словно створки челюстей, теснились классического вида здания, на ступенях которых стояли крошечные кукольные фигуры. Здания слева отличались барочной пышностью и были покрыты узорной резьбой, но те, что справа — а именно они притягивали взгляд из-за диагональной перспективы, — более сдержанны: минуя странную башенку, похожую на маяк для гномов, зритель словно входил в них по узкой лестнице (такой узкой, что чувствовалось, как стены не позволят вам свободно выдохнуть), а потом постепенно поднимался, пока наконец не достигал храма, простого, как Парфенон, на вершине далекой горы.
Я мало что помнила о падении Карфагена — только то, что защитникам пришлось сдать свое оружие и детей Риму, но смысл картины казался достаточно ясным. На самом деле это была притча, написанная красками, в отличие от написанных буквами, из правого верхнего угла к левому нижнему. Когда-то карфагенцам хватало сил и строгости, чтобы взбираться по прямой узкой тропе, но по мере того, как их богатство и мощь стали расти, они оставили строгие высоты величия, забыли о труде и дисциплине, спустились в пышно разукрашенные кварталы по левую сторону, где и рассеяли свое могущество в лени и роскоши.
Картина была датирована 1817 годом — два года после поражения Наполеона, и мне внезапно пришло в голову, что Тернер, наверное, задумал ее как предупреждение Англии — ведь могущественная торговая империя представляет собой Карфаген наших дней, — чтобы она не расслаблялась и не погружалась в созерцание. Преисполнившись уверенности (глупой, как я сейчас думаю), что я правильно поняла этот сюжет, я повернулась ко второй сцене в духе Клода — «Залив Байя, с Аполлоном и Сивиллой», чтобы попробовать разгадать и ее секреты.
Вторая картина была попроще и поспокойнее, яростное солнце и резкие линии зданий сменились мягким светом и плавными изгибами. Зритель словно стоял (снова чуть слева от центра) на широкой песчаной тропе, которая манит и ведет к золотому берегу. Каменный пирс, вдоль которого выстроились лодки, уходит по диагонали в море, показанное только как длинный голубой лоскут посередине холста, но этого хватает, чтобы вызвать приступ томления и заставить почувствовать теплый ветерок на лице, запах соли и аромат диких цветов. Залив окружен невысокими холмами бледного желтовато-зеленого цвета, этот цвет превращается в серый на горизонте и распадается на темные кусты, заросли и листья вблизи. Только присмотревшись, можно разобрать, что среди листвы и камней есть разрушенные здания: руины каменных стен теряются среди песка, а заросли колючек прикрывают две подземные арки, будто два больших глаза, разделенные кирпичным носом, на верхушке зарытого черепа. Подчеркивая атмосферу опасности, в нижнем правом углу картины прячется, поджидая добычу, едва заметная змея того же цвета, что и земля.