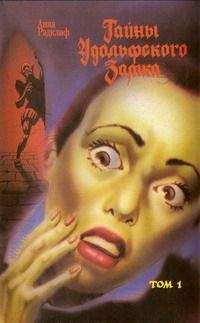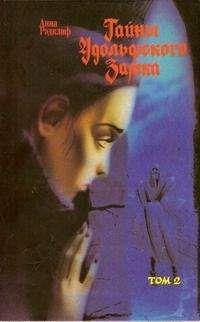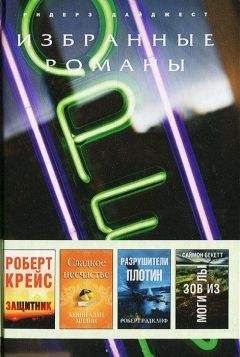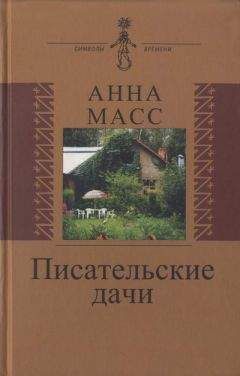Игорь Сахновский - Человек, который знал все
Чуть задыхающийся, как бы на грани срыва, глуховатый голос обратился к нему по имени-отчеству, и Шимкевич изготовился отбрить какого-нибудь попрошайкуизбирателя. Но в трубке сказали:
— Моя фамилия Безукладников. Я вам советую сейчас подплыть к бортику. А то вдруг захлебнетесь — и не узнаете…
Шимкевич слушал беззвучно, слегка выпучив глаза. И по мере того как его ухоженные щеки из персиковых становились грязно-малиновыми, вся водная и сухопутная жизнь вокруг смолкала, устрашенная живодерским бессмысленным выражением на лице купальщика. Мокрые наяды, в бикини и без, торчали из воды в мерзнущих виноватых позах, уже как рядовые проститутки, готовые к тому, что их вот-вот прогонят пинками.
На берегу даже бросили жевать.
Безукладников говорил в идеальной тишине. Тишина создалась такая, что позволяла различить вкрадчивое дыхание аппаратуры из конторы Стефанова, особо участливой ко всем Колиным переговорам и собеседникам. А этому собеседнику, с точки зрения вкрадчивых ведомств, просто не было цены. Он быстро и внятно перечислял наиболее тяжкие подвиги Шимкевича, заботливо поясняя: «Страна должна знать своих героев! И я вам это устрою…» Героя же, казалось, настиг полный ступор. Взгляд его разбегался наподобие ртути, расползался по каким-то невидимым глинистым ямам и лишь раз ядовито плеснул в сторону примолкшей фуги Баха, когда звонящий упомянул таможенника Лешу, выброшенного с балкона по ошибке, то есть по ложной наводке подполковника, сидящего сию минуту у бассейна.
— Но вам-то без разницы — кого убивать, не так ли?
Шимкевич наконец выдавил из себя вопрос по существу:
— Чего тебе надо? Денег?
— Придурок, — сказал Безукладников. — Придурок!
Почти безголосый, он уже почти кричал:
— Ты хотя бы не заставляй ее… ползать перед тобой на коленях!..
Она же в детстве левую коленку повредила!.. До сих пор на холоде болит… Придурок. Ты через шесть лет умрешь от инсульта. При всех этих долларах. И не присылай ко мне больше своих наркоманов, своих киллеров полоумных. У меня здесь не зоопарк!..
Безукладников бросил раскаленную трубку — и понял, что погиб.
Отсчет времени начался. Шимкевичу понадобятся сто шестьдесят две минуты, чтобы среди субботнего дня созвать ударную команду и пригнать ее на Кондукторскую. Малыми силами он не стал бы штурмовать и курятник.
Беспрепятственно уйти из дома уже не удавалось: наблюдатели у подъезда получили сигнал боевой готовности. Один, вполне мордатый, топтался вызывающе близко — на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами.
Законопослушный вариант вызова милиции сулил унизительную телефонную разборку с таким финалом: «Пишите заявление и приходите утречком во вторник на прием к инспектору».
У него был выбор: собраться прямо сейчас, надеть пальто, спуститься вниз, выйти из подъезда, быстрым независимым шагом, не реагируя на оклики, пересечь двор и уже на подходе к перекрестку, не слишком людному в этот час, принять пулю в крестец — причем вкупе с такой дикой, одуряющей болью, что следующий контрольный выстрел станет просто спасением. Либо: никуда не идти, позавтракать яйцом в мешочек, постоять под горячим душем, полистать заждавшегося «Человеканевидимку», покурить, снова покурить, думая о каждой сигарете: «Эта последняя в жизни», а потом лежать на полу с простреленными коленями, прикованным к батарее парового отопления, лежать до приезда Шимкевича, который, не говоря ни слова, наступит лакированными туфлями ему на грудь и начнет прыгать по груди и по лицу.
— Знаете, что такое животный страх? — спросил меня Безукладников. — Это когда у тебя вместо ума и души остается один живот, в котором все кишки скручены судорогой… Он пошел в ванную, разделся, оглядел свое тело, как некую бесхозную мнимость, и встал под душ. По серо-голубой стене вертикально расходились две трещины, образующие под потолком дождливый материк. Приговоренный смотрел вверх на струи воды, на географические трещины и спрашивал у этого запотевшего материка:
«Как мне уцелеть?» И переспрашивал, прислоняясь лбом к береговой линии: «Как мне уцелеть?» Ответ включал поразительно нелепую череду шагов, последний из которых Безукладников вообще мог бы выполнить лишь в состоянии белой горячки.
На яйцо в мешочек и «Человека-невидимку» ему уже не хватило самообладания. Он оделся медленно и тщательно, глядя с прощальным чувством на свою — теперь уже не свою — комнату, причесал мокрые волосы и поплелся к выходу. За дверью, приоткрытой в тяжелейшем приступе неуверенности в себе, блеснула кожаная куртка соглядатая, рванувшего с медвежьей прытью на пятый этаж.
Безукладников пересек лестничную площадку, будто контрольную полосу, и позвонил в квартиру соседки.
Субботнюю Луизу в зеленой косметической маске хотелось облизнуть, как блюдце с крыжовенным вареньем.
— Александр Платонович, я очень извиняюсь! Красота же требует жертв?
— Вашу красоту никакие жертвы не испортят. Можно позвонить? У меня что-то с телефоном…
Он набрал номер, которого не знал еще минуту назад. Где-то на северной окраине города взяли трубку, и вялый, вяленый голос прирожденного неудачника ответил: «Але». С изумлением прислушиваясь к невидимому суфлеру, Безукладников заговорил бодряческим тоном, каким, по его разумению, должны говорить отъявленные бизнесмены. А ему, как отъявленному бизнесмену, приспичило выяснить: правда ли, что Тимоша срочно, к такой-то матери, распродает свой обувной магазин «Salamander»? Женственный Тимоша, мрачно толстеющий на нервной почве, отвлекся от куриного бедра и заправил живот в тренировочные штаны:
— Ты сам кто такой? Кто тебя навел?
— А я-то как раз покупатель, — представился Безукладников. — По наводке Борис Михалыча.
В туманного, как Эверест, Бориса Михалыча Тимоша верил истовей, чем в курс доллара, объявленный с небес Центробанком, а слово «покупатель» вызывало у него буквально физиологическую радость. Покупатели — это были такие слабоумные чудесные существа, которые по своей воле несли Тимоше деньги и кормили его, кормили — даже не за то, что он обувал их в китайский и турецкий ширпотреб под видом немецкого, а, видимо, за то, что он, Тимоша, такой необыкновенный. А если есть еще болваны, которым нравится ходить в опорках, склеенных резиновой кашей, то, значит, их надо обувать!.. Правда, в последние полгода Тимоша нес ужасающие убытки из-за уличных торговцев, замусоривших город точно таким же товаром, но по бросовым ценам. Склад ломился от сезонных неликвидов, пропах склепом и мышиной мочой, и этот запах не давал Тимоше спокойно завтракать, обедать, полдничать и трижды ужинать, включая два перекуса после полуночи…
Но этот покупатель своей чудесностью и особым слабоумием превзошел всех. Он желал купить сразу триста пар обуви — причем немедленно и за наличный расчет.
— Только у меня товар… немного прошлогодний, — на всякий случай сознался Тимоша.
— Клиент всегда прав, — наобум ответил Безукладников, и Тимоше почудилось, что сделка может сорваться.
— Я же, блин, отдаю за сорок процентов!
— А я беру за шестьдесят! Но только сегодня. С доставкой на дом!..
Умалишенным лучше не возражать. На дом — значит на дом. Ровно через два часа?.. О'кей, ровно через два! Записываю адрес… Номер дома, номер подъезда…
— Заметано.
Безукладников заставил себя широко улыбнуться, как это, ему казалось, принято у коммерсантов, ударивших по рукам.
Свежеумытая после маски, потрясенная Луиза стояла посреди комнаты и, забыв о приличиях, глядела с открытым ртом — вчера еще милый, интеллигентный Александр Платонович, теперь зараженный миром чистогана, демонстрировал, так сказать, гримасы капитализма.
— Простите меня, — зачем-то сказал он, уходя. И это последнее, что она слышала от Безукладникова.
Он отступил назад за контрольную полосу, в свое ненадежное логово, где пока еще было тихо. Время уходило так медленно, как будто ему было больно расставаться с пространством. Не зная, куда себя девать напоследок, Безукладников принялся двигать шифоньер в сторону прихожей. Шифоньер настырно упирался всеми четырьмя корявыми ногами. Безукладников намочил под краном половую тряпку и просунул ее под мебельную подошву. Тащить за тряпку было немного легче. После того как шифоньерная туша заполонила прихожую и привалилась к наружной двери, Безукладников понял, что потерял доступ к плащу на вешалке и к ботинкам, стоящим под ней. Выдвигать шифоньер обратно уже не было сил.
Остаток времени он провел в тупой неподвижности возле кухонного окна. Одинокая пенсионерка со второго этажа водила по двору на веревке беспородную собаку, и они обе вызывали зависть своей никому ненужностью. Снежная крупа косой побежкой неслась к неопрятно чернеющей земле, внушая надежду на некое светлое постоянство, что отнюдь не отменяло полного безразличия будущего снега к этим людям, глядящим из окон на субботний белый свет, и к этим, бойцовского вида, уверенно вышедшим из-за угла дома и пересекающим двор…