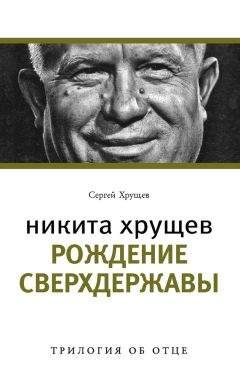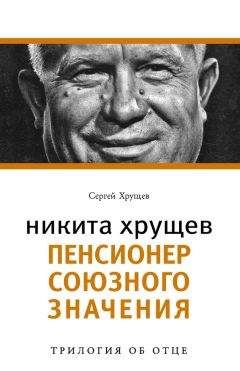Майкл Грубер - Фальшивая Венера
Что касается Тоби, теперь остается лишь беспомощное сожаление, хотя с чего бы мне сожалеть о человеке, который преуспел в жизни больше своего отца: столп общества и церкви, трое очаровательных детей, с которыми он меня так и не познакомил, — впрочем, не думаю, что я этого хочу. Поразительно, что, как только Тоби стал чувствовать себя личностью, он начисто отверг все, чем я был: он умышленно ломал цветные карандаши, оставлял под дождем дорогую бумагу для рисования и портил качественные немецкие фломастеры, которые я ему покупал, а в довершение привязался к моему первому тестю.
А Макс просто принял его и воспитал в соответствии со своими строгими принципами, что совсем не нравилось Сюзанне, однако пошло впрок ее сыну; в старших классах школы парень стал заниматься футболом, затем поступил в Пердью,[36] как и его дед, и был там звездой, а теперь он инженер, и точка. Каждый год я получаю на Рождество открытку и фотографию очаровательного семейства: группа каких-то милых незнакомцев.
Итак, обратно к прекрасному одиночеству, до тех пор пока я не познакомился с Лоттой. Мы поженились, у нас родились Мило и Роза, а затем мы разошлись. Какое-то время мне казалось, что Лотта меня спасет, потому что я мог говорить с ней так, как никогда не мог говорить с Сюзанной, и я полагал, что смогу сохранить в ней подлинного Чаза, как в вечном зеркале. У нее была компьютерная память, она никогда ничего не забывала: ни разговоры, ни сны, ни мои многочисленные ляпы, — и если задуматься, то это ужасно раздражает, нельзя так поступать с другим человеком, как бы сильно он тебя ни любил. Свое истинное «я» ничем не заменить. Диктуя это послание, копаясь в том, что осталось от моих воспоминаний после всех тех наркотиков, которыми я набил свой организм, пока был с Лоттой, и после того, что случилось с Зубкоффом, я должен признаться, чем я ее доконал. В сущности, я вошел, насвистывая, в гробницу своего отца, хотя и клялся, что никогда этого не сделаю, и это ее сломало. Яд просочился в нее, как он просочился в мою мать. Полагаю, вот почему Лотта, самый честный и порядочный человек из всех, кого я когда-либо встречал, в конце концов предала меня. И она имела на то полное право.
На самом деле я так и не понял, чего хотела от меня Лотта. Самовыражения? Не думаю, что дело было только в этом. Я постоянно рисовал для нее, если угодно, чистое самовыражение, но то лучшее, что я сделал для нее за все время, пока мы были женаты, ввергло ее в ужасное настроение. Это было на пятую годовщину свадьбы, мы перед тем пару недель ссорились и мирились, и я решил ради разнообразия сделать что-нибудь необычное. А ссорились мы по поводу этой чертовой обложки для журнала «Нью-Йорк», посвященной очередному браку Рудольфа Джулиани,[37] в данном случае с Джудит Натан.
От меня хотели очевидную кальку, «Бракосочетание Джона Арнольфини» Ван Эйка, что я и сделал, маслом по настоящей дубовой доске, в полном соответствии с оригиналом. На лице мужчины я изобразил надменное лицемерие, а на лице женщины — самодовольство персидской кошки, а в вогнутом зеркале у них за спиной я написал гостей, знаменитостей, улыбающихся, словно оскаленные черепа, и еще я использовал десять маленьких люнетов по краю зеркала, проиллюстрировав этапы карьеры жениха и разрыв двух его предыдущих браков. По-моему, получилось хорошо. Это была настоящая картина, а не шарж, и в ней присутствовала определенная весомость оригинала.
Я принес ее домой, после того как в журнале с ней сделали все, что нужно, и Лотта прямо-таки взорвалась, начала свои обычные рассуждения о том, как я могу так с собой обходиться, что мой талант вроде божества, которому нужно поклоняться особым образом, а все эти рекламные агентства и журналы понятия не имеют, чем я занимаюсь, что мелкие подробности все равно невозможно передать, и сколько времени я потратил на подобную дрянь, а ведь у меня всего одна жизнь. Это была ее излюбленная фраза: «Как ты можешь так бездарно растрачивать свою единственную жизнь?» Но я не видел, чтобы она сама посвящала свою единственную жизнь тому, чтобы заработать достаточно денег для Мило (я имею в виду, что она не особенно надрывалась в этой маленькой галерее), — нет, эта обязанность возлагалась исключительно на меня, премного вам благодарен, и примерно тогда я начал баловаться амфетаминами, чтобы максимально использовать свою единственную жизнь и приносить домой больше денег.
Так или иначе, где-то в середине мая — это было в воскресенье, в один из лучших дней нашей совместной жизни, примерно за месяц до годовщины свадьбы — я варил кофе на кухне и вдруг услышал доносившееся из спальни хихиканье. Я подошел к едва приоткрытой двери и заглянул внутрь. Они лежали на кровати, Лотта и Мило, ему тогда было около четырех, и щекотали друг друга. На ней была батистовая ночная рубашка, а на нем пижама с изображением человека-паука, и это зрелище буквально меня оглушило: льющийся солнечный свет, две фигуры на белой простыне и сверкающая бронза спинки кровати. Я словно прикоснулся к чужой тайне, стал невольным свидетелем полуэротической игры, в которую иногда играют матери со своими сыновьями примерно этого возраста, и на мгновение я почти вспомнил — чувственное восприятие, а вовсе не что-то конкретное в памяти, — как занимался тем же самым со своей матерью.
В тот же день я отправился в студию, натянул и загрунтовал большой холст размером три на пять футов и начал писать, как это было. Мальчик на картине чуть отвернулся от матери, на лице его написано удовлетворение, а мать сидит на кровати, опираясь на одну руку, а другая рука, вытянутая, касается головы ребенка, и его темный локон обвивается вокруг ее указательного пальца. Я полностью отдался работе, которая на следующие несколько недель стала для меня отдушиной. Ежедневно я проводил сколько-то времени, зарабатывая на хлеб насущный, а затем возвращался к этой картине, и все у меня получалось прекрасно, замечательно. Рот ребенка я сделал тремя быстрыми мазками, великолепный, сияющий жизненным соком, и то же самое насчет телесной окраски кожи матери, которую я знал как свою собственную: она проступает сквозь прозрачную ткань ночной рубашки в лучах утреннего света, жемчужно-розовая, и вы почти ощущаете аромат только что пробудившейся ото сна женщины.
Это могла быть обыкновенная жанровая картина, но получилось нечто большее; краски жили, существовали, как в серьезной живописи, и я превратил белую простыню в потрясающий снежный буран всех тех оттенков, какие принимает белый цвет в лучах утреннего солнца. А полная жизни линия материнской руки, связывающей ее с ребенком, а положение ее бедра на кровати, а другая рука, на которую она опирается, — безупречная, рельефная, живая… Я не мог поверить своим глазам.
Я закончил работу, совершенно счастливый, и не сомневался, что Лотта тоже будет счастлива. Но когда она сняла оберточную бумагу, то долго молча смотрела на холст, словно оглушенная, а затем бросилась в спальню и залилась слезами, расплакалась навзрыд. Я подошел к ней и спросил, в чем дело, и она ответила какой-то вздор, что-то вроде: «Ты меня убиваешь, ты меня убиваешь». Как выяснилось, Лотта не понимала, что ради любви я могу творить такое (имеется в виду в живописи), что не могу творить ради денег. Потом она вроде бы успокоилась, и мы повесили это проклятое полотно в спальне, но Лотта упрямо не желала о нем говорить, и картина стала чем-то вроде подарка злой феи из сказки: вместо того чтобы нас сблизить, она, наоборот, отдалила нас друг от друга. Так что после нее я занимался только коммерческими заказами.
Все бы замечательно, но как раз в это время появился «Фотошоп», и художественные редакторы, желавшие иметь стилизации под известные картины, получили возможность просто покупать права у Билла Гейтса или кого там еще и приделывать персонажам новые лица, да к тому же программа позволяла добавлять импрессионистические эффекты или кракелюры, и я лишился половины заработка. Поэтому мне пришлось работать вдвое напряженнее, особенно после того, как выяснилось, что у нашего Мило проблемы с легкими — наследственная легочная дистрофия, плохо изученное заболевание, с которым едва справлялось одно-единственное лекарство, сделанное из истолченных в порошок алмазов, если судить по его баснословной цене. И естественно, мне пришлось увеличить свою дозу, и один раз я слетел с катушек, учинил дома погром, судя по всему, врезал Лотте, и меня забрали. Я говорю «судя по всему», потому что сам ничего этого не помню.
И я как примерный мальчик отправился в реабилитационную клинику и прошел курс лечения, но, когда выписался, Лотта сказала, что больше не может со мной жить, она не может нести тяжесть моих демонов. Тогда я перебрался обратно в свою студию и с тех пор жил от одной выплаты до другой, в основном работал на журналы, газеты, иногда для рекламы, денег всегда не хватало, меня засасывало все глубже в преисподнюю просроченных кредитных карточек, в преисподнюю налоговой службы…