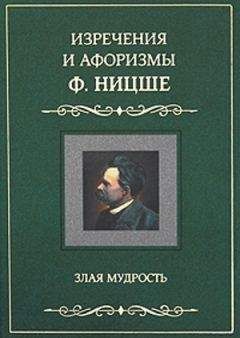Чарльз Холдефер - Наемник
Мой «опыт» сыграл только много позже, накануне первой войны в Заливе. Ближе к концу срока, предусмотренного контрактом, я оказался участником операции «Щит пустыни». К этому моменту идея вернуться в Гарден-Сити уже не казалась мне неудачной. Я досыта наелся армейскими порядками и устал всегда ходить за кем-то след в след – а тут еще и война наметилась. Нет, это не жизнь. В тот момент я служил в Саудовской Аравии при штаб-квартире – в настоящем временном городке из ярко-зеленых бедуинских шатров; при малейшей возможности я старался намотать на голову мокрую рубашку, чтобы хоть чуть-чуть уберечься от жары. Сорок пять градусов в тени были обычным явлением. В такую жару мозги могут испортиться, как мясо без холодильника, если не принять мер, – по крайней мере, так нам казалось. Однажды, к немалому удивлению, я получил приказ явиться в штаб-квартиру разведопераций, в группу, занятую стратегическим дебрифингом.
В то время я слабо представлял себе, что означают эти слова. Но звучало серьезно. Что-нибудь связанное с перебежчиками? Проверка и анализ полученной от них информации? До того дня я занимался преимущественно тем, что командовал несколькими не слишком дисциплинированными раздолбаями, которые готовили пустые пятидесятигаллонные бочки для повторного использования. Мы резали их пополам ацетиленовыми горелками и набивали гремящими половинками кузова грузовиков; эти полубочки развозили по частям и использовали для сжигания всякой всячины и в качестве полевых уборных. Просто удивительно, как много пятидесятигаллонных бочек требуется армии каждый день.
Я начал размышлять: какого рода назначение мне предстоит? Отправят в Кувейт? В лагере циркулировали всевозможные противоречивые слухи. Говорили, что на границе постепенно выстраиваются авиа- и бронечасти. До сих пор моя винтовка, тщательно завернутая в кусок пузырчатого пластика, благополучно путешествовала в железном ящике. И мне совершенно не улыбалась идея пустить ее в ход. Да, Гарден-Сити представлялся совсем неплохой перспективой.
Когда я, согласно приказу, явился в назначенное место, поначалу никто не мог объяснить мне, что происходит; меня несколько часов мариновали на самой жаре в ожидании нужного человека. В конце концов капитан, к которому я весь день приставал, предположил:
– Вероятно, все дело в твоем языковом опыте.
Я не понял. Я продолжал мыслить как специалист по пятидесятигаллонным бочкам. Что? Язык? Потребовалось несколько мгновений, чтобы смысл этого слова по-настоящему дошел до меня.
Потом возникла следующая мысль: вот черт!
Очевидно, мое заявление и анкета, заполненная бог знает когда, по-прежнему путешествовали по миру следом за мной.
Я как раз мочил очередное полотенце, собираясь обмотать им голову, когда меня вызвали к другому офицеру, который и сообщил мне радостную новость. Капитан оказался прав в своих предположениях. Меня вызвали из-за беглого владения арабским.
– Сэр, я должен честно предупредить вас, что в настоящее время мои возможности в этом смысле невелики. Без практики язык теряется, сэр.
– Сделайте все, что сможете, солдат. Как только мы двинемся вперед, появится много пленных. У нас не хватает специалистов, и такие парни, как вы, помогут справиться с наплывом. Нам нужны все без исключения.
– Так точно, сэр.
Перспектива выглядела тревожно. Конечно, я готов был служить своей стране… но как бы вместо службы теперь не получилось саботажа. В самом деле, как человеку ответственному мне следовало объяснить ситуацию вышестоящему начальству, но в тот момент каждый был занят более неотложными делами. Начальство решило бы, что я то ли несу чепуху, отвлекая от дел, то ли увиливаю от работы; а может, то и другое вместе.
Некоторым людям первая война в Заливе задним числом представляется легкой прогулкой, но тогда нам так не казалось. Теперь никто об этом не говорит, но мы были напуганы. Мы знали только, что по другую сторону границы сосредоточены иракские войска. По большей части это были закаленные войска, принимавшие участие в войне против Ирана. Некоторые солдаты воевали начиная с десятилетнего возраста. Из нас же почти никто не нюхал пороху. Из описаний можно было понять, что по ту сторону границы собрались отчаянные головорезы. Считалось, что противник обязательно применит нервный газ. Мы превосходили неприятеля в силе и техническом оснащении и твердо верили, что в конце концов наша возьмет, – но в глубине души каждый из нас готов был наложить в штаны. Да и как могло быть иначе, если все мы таскали за собой противогазы и специальные медицинские укладки с атропином и оксином в одноразовых инъекторах, глотали согласно инструкции бромсодержащие таблетки? А боевая надбавка к жалованью – сто баксов в месяц. Прогулочка, говорите? Не смешите мои тапочки!
К счастью, до окончательного ультиматума дело тянулось довольно долго. К тому моменту, когда началась воздушная кампания, двинулись силы вторжения, и к нам начали поступать пленные, в лагерь для помощи с допросами прибыло множество штатных переводчиков коалиции. Это были в основном кувейтцы и тунисцы, иногда попадались марокканцы. Обстановка сбивала с толку – даже среди своих, американцев, легко было запутаться: переводчики не носили знаков различия, чтобы пленные не могли определить их ранг или гражданство. Тем не менее шеф следственного управления точно знал, что происходит. Этот приземистый волосатый человек, похожий на Йоги Берру,[6] мгновенно раскусил меня и определил на надлежащее место в команде: запасным мальчиком на побегушках.
Он посадил меня писать рапорты. Я перелопачивал горы бумаг и таким образом приносил пользу делу. Я присутствовал на десятках допросов: многие пленные охотно шли на сотрудничество и, казалось, испытывали облегчение оттого, что попали в плен. Несколько дней в наших порядках царил хаос – мы просто не справлялись с наплывом пленных, – и каждый, кто действительно хотел бежать, мог это сделать. Никто не убежал.
Тон следователей в общении с пленными всегда был профессиональным – если не считать тех случаев, когда жара, усталость и утомительное ожидание перевода вопросов и ответов начинали действовать всем на нервы и человек срывался на крик. Не было ни грубого обращения, ни нарушения утвержденных методов допроса. «Шестнадцать милых правил», как я позже научился называть их.
Я помню, как однажды наливал колу из пластиковой бутылки в стакан переводчика-марокканца. Ему приходилось почти все время бездельничать, в то время как кувейтцы шли нарасхват.
– Спасибо, – сказал он мне, когда стакан был почти полон.
Я кивнул и, употребив значительную часть своих лингвистических познаний, спросил его:
– Кифая?
Он взглянул недоумевающе, но через мгновение кивнул и улыбнулся.
* * *– Как ты повредил руку? – спрашивает Бетани.
Я опускаю взгляд на пальцы, на место укуса.
– Работа, – говорю я.
– Ты выглядишь расстроенным.
Это замечание и удивляет меня, и одновременно радует. Это приглашение к откровенности, момент сближения для нас двоих. Если нам удастся что-то склеить, то только через маленькие шажки, подобные этому.
– О, ничего конкретного, – отвечаю я. – Эта работа оказалась более напряженной, чем я ожидал.
– Но только вчера ты сказал, что умираешь со скуки.
– И это тоже. Дело в том, что… это трудно объяснить.
– Ты даже не пытаешься объяснить. Ты вообще ничего не рассказываешь. Приходишь домой и сразу идешь к детям.
И что мне делать, скажите на милость: извиняться за то, что я хороший отец? С другой стороны, она права. Она заметила. Я намеренно перенес внимание на детей. Их рассказы, их бедное событиями замкнутое существование представляются мне чистым и безопасным убежищем, и я с радостью ухожу туда при первой возможности. Каждый день, стоит мне войти в дверь, Кристофер спешит рассказать какую-нибудь забавную историю из школьной жизни с мисс Бриз, а Джинни спрашивает, принес ли я новую ракушку в ее коллекцию. Каждый день я подбираю что-нибудь для нее по пути на Омегу или обратно. Мне не всегда удается найти действительно красивую или необычную ракушку, но она с радостью принимает любые – ей все равно, лишь бы от меня. Если это звучит слишком примитивно и по-детски – так, как будто я всего лишь потакаю ее прихотям, – то на самом деле все сложнее. Этот маленький человечек улыбается и радуется не ракушке как таковой, а тому удовольствию, которое приносит ей это простое каждодневное действие. Это проявление и символ нашей близости. Я потакаю ей, но и она тоже потакает мне, и мы оба это знаем. Дело не в ракушках, а в любви. Это как договор, который мы оба согласны соблюдать.
Затем Бетани добавляет:
– И не говори мне, что не можешь ничего рассказать по соображениям секретности. Ты изменился и стал таким еще до приезда сюда.