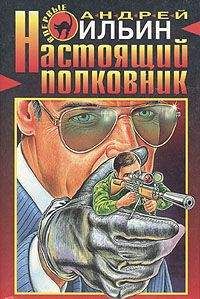Роберт Кормер - Наше падение
Со всей своей жадностью Авенжер перечитывал газетную статью. У него участился пульс. Казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди, глаза светились, а голова налилась жаром, будто его лихорадило. Он всматривался в лицо Вона на газетной фотографии: аккуратно расчесанные волосы и широкая улыбка, обнажающая маленькие острые зубы.
И хотя он почувствовал безмерное удовлетворение от прочитанного, он не сделал ошибку, не вырезав статью из газеты, чтобы сохранить ее как сувенир. Он не раз видел в кино, как найденные на чердаке у убийцы желтые газетные страницы, на которых было описано убийство, выдавали его годы спустя.
Весь пятый класс пришел на кладбище Первой Конгрегатской церкви. Авенжера поразило лицемерие одноклассников, в особенности девочек, которые всю дорогу громко плакали, сморкались и вытирали носы. Даже мальчишки выглядели печально, в том числе Дэнни Дэвис. Авенжер сделал на лице мину, будто был глубоко погружен в свои скорбные мысли. При всей своей ненависти к необходимости претворяться, он знал, что не может выделяться среди толпы и привлекать к себе ненужное внимание.
Незадолго до того, как прикатили гроб, родители Вона углубились в трансепт. Авенжер испытал к ним долю симпатии, представив свою мать в церкви на его похоронах, и ему их стало жаль. Когда они сели на скамью, то он увидел их лица. Рука мистера Мастерсона задрожала, и он положил ее на плечо супруги. Скорее всего, они понятия не имели, насколько ужасной и отвратительной персоной был их сын. Без сомнений они скорбели. Авенжер понял, что оказал им услугу, убив его прежде, чем они успели в нем разочароваться. Он признавал, что в последствии из Вона Мастерсона получился бы ужасный человек.
Священник начал свою речь. Будто учитель на уроке, он говорил тихо и медленно, и будто все, кто его слышал, впоследствии по преподаваемому им предмету должны были сдавать экзамен. Он говорил о вечном бытие, о доброте господней и о жизни в свете Всевышнего, о трагедии и о ранней смерти, а также о славе на пути к господу в место, отдаленное от грешной земли.
Авенжер просто слушал. Его взгляд приклеился к полированной древесине гроба. Священник продолжал говорить о том, что все должны быть благодарны Вону за время, которое он провел с ними на земле. Авенжер также был ему благодарен: Вон научил его тому, как легко можно избавиться от каждого, кто не достоин жизни. Все оказалось проще, чем на телеэкране, где убийца все равно оказывался пойман незадолго до конца фильма. «Почему все оказалось так просто?» — подумал Авенжер и нахмурился. Пока священник бубнил себе под нос, он пытался найти ответ. Почему его не схватила полиция? Двое полицейских приходили в школу и говорили с каждым в отдельности, задавали вопросы: «Было ли незадолго до того что-нибудь необычное в поведении Вона? Видел ли кто-нибудь его с пистолетом в руках?»
Когда настала его очередь, то Авенжер смотрел им прямо в глаза и лгал: «Нет, в день его смерти после школы он не видел Вона Мастерсона». Он понял, как легко дается ложь — проще, чем устные ответы на уроках в классе. В кино и по телевизору виновный всегда выглядит виновным, потеет, никому не смотрит в глаза. Но Авенжер с уверенностью в себе произносил ответы лучшим из своих голосов, будто спрашивал мать, нет ли у нее к нему каких-нибудь поручений по дому, когда на самом деле в домашних делах энтузиазм его был невелик.
Он зевнул от скуки, пытаясь не слышать слов священника, и сделал потрясающее открытие, которое пришло к нему, когда священник сказал: «Никто не знает, почему в тот день погиб Вон». На словах «Никто не знает, почему…» у Авенжера в голове будто что-то резко поменяло свои места. Другими словами, в полиции так и не определили причину его смерти — сам мотив. Он уцепился за слово «мотив», которое слышал миллион раз в фильмах и телесериалах: «Однажды, узнав мотив, мы найдем убийцу», — но вплоть до этого момента ни разу не осознал глубину значения этого слова. Мотив — это была нить, связывающая убийцу и его жертву, стрелка, указывающая на убийцу. И если мотив не был найден, то убийца продолжал находиться свободе — потрясающе и до ужаса просто. Удивляло то, почему они не пытались найти связь между кем-либо и смертью Вона Мастерсона. «Они даже не искали убийцу», — тихо сказал он себе, когда речь священника закончилась, загрохотал орган, и все скамьи затряслись от вибрации педального баса.
Авенжер с трудом удержался, чтобы не улыбнуться и прикрыл рот руками. Каждый вставал и по очереди проходил мимо гроба Вона Мастерсона.
Бадди всегда старался успеть к ужину, потому что мать всегда настаивала, чтобы они с Ади были за столом в четверть седьмого: «Хотя бы раз в день мы можем побыть вместе».
У нее всегда была стильная прическа, каждый волос был на месте, и о ней все говорили как о стройной и элегантной женщине. Когда она убирала в доме или пекла на кухне пирог, то всегда выглядела опрятно, никто ни разу не видел ее растрепанной, на ее лице не было ни пятнышка муки. Ее передник всегда был на ней, и он не просто защищал ее от брызг или капель: они летели лишь на него, не попадая ни на платье, ни на блузку.
Каждый ужин был мучением. Как правило, еда была далеко не плодом ее вдохновения, потому что пять дней в неделю она работала административным секретарем в страховой конторе, расположенной в центре Викбурга. Запеканка приготавливалась заранее, а затем ее лишь разогревали в микроволновке. Запеканки или замороженные ужины, пониженный холестирол, малокалорийная пища. По выходным она готовила особые блюда, сопровождаемые экзотическими рецептами из ее коллекции поваренных книг. В такие дни она, как правило, экспериментировала с имбирем. Все эти сумасбродные блюда, особенно японские, были напичканы этой приправой. Бадди ел их без энтузиазма и с неохотой, через силу, как и все, что он делал в своей жизни. Ади жевала вяло и апатично, еда не возбуждала ее тоже. «Я питаюсь святым духом», — любила говорить она, хотя Бадди, как-то зайдя к ней в комнату, чтобы взять какой-то словарь для домашнего задания, нашел там множество конфетных оберток.
Кроме еды, во время ужина мать с Ади все время говорили, и делали это без остановки, будто для них обоих молчание было наказуемо. Они болтали о школе, работе, погоде, о пробках на дорогах — о чем попало, лишь бы не умолкать. Бадди их не слышал. Он мысленно уносился куда-нибудь подальше от этого дома, что особенно легко было сделать после глотка джина.
Он подумал: что бы случилось, если бы он вдруг нарушил рутину их ужинов? Например, показав им газетную статью, недавно вырезанную из газеты Ренди Пирсом: «Смотри, чем занимается твой сын. Видишь, мама? Он не теряет время даром, не брезгует хулиганством».
«Вандализм в доме. Жестоко избита девушка четырнадцати лет».
Ренди отпечатал это на «ксероксе» и разбросал листовки по всей школе, даже приколол на все доски объявлений и дверки вещевых шкафчиков, пока Гарри своим разъяренным голосом не приказал удалить их. «Не стоит привлекать к себе внимание».
— Больше никаких погромов, — наконец, Бадди высказал это Гарри.
— Ты желаешь, чтобы я озвучил это как команду, — ответил Гарри, низко поклонившись, будто актер со сцены. Гарри — актер… он лишь только претворялся, что прислушивается к другим. Бадди усвоил это прежде.
За обеденным столом сам Бадди тоже был актером, как, наверное, и его мать и сестра. Он делал вил, что стул напротив матери занят. На этом стуле никто не сидел, как и не было со стороны незанятого стула тарелки и столовых приборов. Однажды зайдя на кухню, Бадди увидел, как Ади накрывает на стол: ее глаза были мокрыми от слез, и он понял, почему. По старый привычке она разложила нож, вилку и ложку на отцовское место. На ее лице не скрывалась печаль, она старалась не смотреть Бадди в глаза.
— Хватит, — грубо произнес Бадди, — Он не стоит твоих слез.
Бадди ненавидел кухню еще и за то, что отец заявил тут, что уходит их жизни. Это было заявление, которое удивило его и как никогда шокировало, отчего внутри у него что-то щелкнуло, и вдруг прояснилось множество удивительных вещей, произошедших в их жизни. Неделями отец был как бы не с ними, где-то вдалеке, сидел за столом тихо и не вступал в обычные за их семейным ужином разговоры. Он часто опаздывал за стол, подскакивал в самую последнюю минуту, а если он и говорил, то тихо, иногда помногу раз извиняясь. Все это лишь немного удивляло Бадди. Пока отец не сделал то самое заявление. Он извинялся, хмурился, прочищал горло, его руки совершали беспорядочные движения, он касался тарелки, ножа, вилки, рюмки, в которую почти под самую кромку был налит «Шардене».
— Мы с матерью решили, что на какое-то время я перееду жить в другое место, — его голос был подавлен. Как Бадди выяснил позже, в этих словах содержалась некоторая неправда. Прежде всего, это было решение, принадлежащее лишь отцу — мать не решала тут ничего. К тому же это было не «на время». Он не собирался возвращаться.