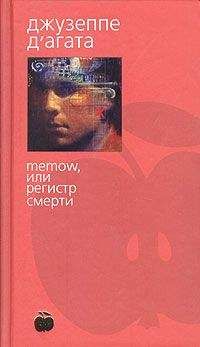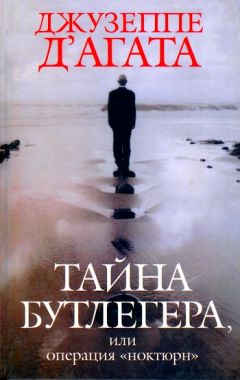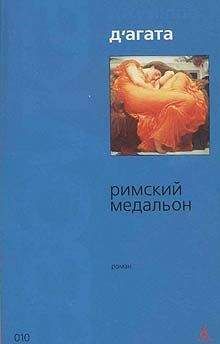Джузеппе Д'Агата - Возвращение тамплиеров

Обзор книги Джузеппе Д'Агата - Возвращение тамплиеров
Джузеппе Д'Агата
Возвращение тамплиеров
Отвечаю на Ваше любезнейшее письмо, Ваше высокопреосвященство, с большой задержкой — из-за того, что картина для алтаря, весьма трудоемкая из-за множества изображенных на ней фигур, несколько месяцев вынудила меня не появляться в мастерской; добавлю еще в свое оправдание, что мои помощники, которые, спору нет, работать умеют, совершенно, однако, не способны подумать и позаботиться о том, чтобы переслать мне корреспонденцию по адресу, который я всегда оставляю на время своего отсутствия.
В последние годы, как Вам, наверное, известно, я все реже обращаюсь к религиозным сюжетам, потому что весьма востребован как портретист, но я более чем счастлив принять предложение написать «Благовещение» для Вашей куриальной капеллы в Павии. Помимо величайшей чести служить Вам есть и другая, я бы сказал, настоятельная, причина, побуждающая меня ответить согласием на Вашу просьбу. Причину эту, духовного свойства, мне бы хотелось объяснить, хотя для этого придется удлинить послание и отвлечь Ваше всемилостивейшее внимание долее необходимого.
Сумма, которую Вы предлагаете, меня более чем устраивает, Ваше святейшество, но хочу сразу же отметить, что мне нужны не деньги, а помощь, какую может оказать лишь столь высокопоставленный священнослужитель, как Вы.
Тридцать лет тому назад, в 1510 году, ко мне явились посланцы одного знатного господина, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы заказать его портрет. Я был тогда почти безвестным художником, мне не исполнилось еще и восемнадцати. Тщеславия хватало в избытке, а опыта недоставало. Представьте мое волнение, когда я узнал, что за работу предлагают целых сто дукатов (по тем-то временам!). Конечно, я не долго думая согласился, приняв и поставленное мне условие хранить все в строжайшей тайне. Почти всю дорогу меня везли с завязанными глазами, так что я не знал, куда мы едем. Наконец мы добрались до места, и я предстал перед тем, чей портрет должен был написать.
Это был благородный юноша лет тридцати, бледный, с тонкими чертами лица, с уверенной осанкой человека, привыкшего отдавать приказания, но манеры его отличались спокойствием и изысканностью. Несомненно, то был знатный аристократ, и я убедился в этом, когда один из придворных, обратившись к нему, неосторожно вымолвил слово «князь». И все же мне так и не удалось узнать ни его имени или хотя бы названия дворца, ни выяснить, где мы находимся.
«Вот странная причуда!» — подумал я. Однако на другой день, когда в огромном и необычайно светлом зале я начал трудиться над портретом, костюм этого знатного юноши вызвал у меня немалое недоумение. Я имею в виду его платье! Подобного я никогда прежде не видел и не хотел бы никогда больше видеть!
На груди его камзола был вышит вписанный в круг лабиринт, а на рукавах роскошной мантии красовались некие узоры, тоже круглой формы. Много лет спустя я узнал, что они изображали пресловутые узлы Соломона, символы Господней воли, толковать которые умеют лишь немногие избранные.
Знатный синьор не обратил внимания на мое удивление и жестом велел приступить к работе. Мой взгляд снова и снова обращался к лабиринту и узлам, но работа между тем продвигалась споро — во многом благодаря тому, что знатный господин мог часами сидеть недвижно, в полном молчании, не нарушаемом никем из нас. Так или иначе, портрет был закончен довольно быстро. Я получил условленную сумму и тем же способом был доставлен обратно.
И вот я подошел к самому главному, Ваше высокопреосвященство, и надеюсь все же, что сумею выразить это своим скудным языком.
Мои хулители — друзья-художники — говорят, что моя живопись, пусть красивая и приятная, ущербна, так как не отмечена самостоятельностью и вдохновляется слишком многими и различными живописными течениями. Одна картина написана в манере ломбардо-кремонской школы, другая в венецианской манере, и есть даже такие, что копируют стиль некоторых иностранных художников. Я долго пытался выступать против злых наговоров, но постепенно заключил, что, наверное, в них есть своя правда. Именно поэтому я и решил посвятить себя главным образом портретной живописи.
Одним словом, если вдохновение исходит от души — а я думаю, так оно и есть, — то я лишен всякого вдохновения, потому что у меня нет души. Моя душа, готов поклясться, осталась плененной в лабиринте, что был изображен на груди неизвестного знатного господина: это он выманил ее у меня! Понимаете, Ваше высокопреосвященство?
Ради неба, употребите Вашу волю, Ваши молитвы и Ваши заклинания, чтобы ко мне вернулась моя душа. Она мне нужна не для живописи! Я весь дрожу при мысли, чтó меня ожидает, когда придется отдать ее Господу.
Молю Вас о святом благословении.
Бартоломео Венето, год тысяча пятьсот сороковой от Рождества ХристоваИнтрига повествования — душа и тело персонажей. Их тела и души могут раскрыться и по-настоящему воплотиться только в ней.
Р. Л. СтивенсонГлава первая
— …Христос, агнец Божий, пожертвовавший собой во благо мира, сжалься надо мной. Агнец Божий, спасший всех, кто верит, дай мне вечный покой в жизни и в смерти. Да будет так.
Закончив молитву, которую Папа Лев III в своей книге молебнов о спасении отнес на воскресенье, Джакомо перекрестился и поднялся с колен, еще раз взглянув на драгоценный образ Богоматери, перед которым привык молиться. Это была небольшая икона настоящей византийской работы, и он бережно сохранял ее в своей спальне. Впрочем, в богатом и чопорном особняке, где он обитал, имелось много других картин.
День был воскресный. К тому же то был первый день 1989 года — года, который, если верить падре Белизарио, — ожидался достопамятным, богатым на поразительные чудеса.
Но для Джакомо Риччи — высокого и худого молодого человека, чье лицо, почти лишенное растительности, с резкими, угловатыми чертами, выражало твердость и решительность, — этот первый день года ничем не отличался от других. К двадцати двум годам юноша насквозь пропитался радикальными в своей чистоте убеждениями; это привело к стремлению ни в чем не походить на обычных людей, а для начала — освободить себя, по возможности, от гнета календаря.
Он не сомневался в своем превосходстве над окружающими и демонстрировал его даже при помощи внешнего облика. Среди сверстников Джакомо выделялся тем, что носил шляпу и, независимо от сезона, одевался со строгой изысканностью, слегка напоминавшей стиль далеких тридцатых.
Он подошел к окну. Оттуда открывался вид на небольшую площадь и старинную церковь Санто-Стефано. Людей почти не было: как и обычно, все праздновали Новый год до глубокой ночи. Мания эта, похоже, оказалась на редкость заразительной. Солнце почти не дарило тепла зимним утром, и редкие прохожие предпочитали открытое пространство мрачным портикам.
Этой ночью Джакомо тоже присутствовал на новогоднем празднестве в одном доме. Но юноша сохранял всегдашнюю безучастность и обходил стороной взрывы веселья, заполонившего все гостиные в бельэтаже палаццо Гиберти.
Устроила праздник молодая графиня Белла Гиберти, происходившая из знатной тосканской семьи. Все, что касалось угощений и напитков, удалось на славу, но с гостями вышло иначе. Серые посредственности: именно это читалось в насмешливом взгляде Джакомо при виде большинства приглашенных — ими были молодые люди из лучших болонских семей. А девушек, причесанных и загримированных совершенно однообразно, он вообще находил лишенными и вкуса и фантазии.
Переходя из зала в зал с бокалом шампанского в руке, молодой человек спрашивал себя, не слишком ли строго он судит о приглашенных. И хотя суждения его отличались беспощадностью, ни сомнений, ни сожалений он не испытывал. Джакомо решительно отвергал снисходительность, всяческие оправдания, отговорки, компромиссы и не выносил ханжества, ревности, зависти, эгоизма, скрытых за хорошими манерами. Всему этому он противопоставлял долг и строгость: два слившиеся воедино понятия стали для него едва ли не навязчивой идеей. Долг и строгость — против легко раздаваемых удостоверений о честности и добропорядочности. И даже против ума, который Джакомо считал весьма редким товаром.
— Привет, синьор Строгость, — произнес кто-то рядом.
Джакомо, узнав голос, обернулся, попытавшись стереть с лица презрительную усмешку и заменить ее сердечной улыбкой:
— Чао, Яирам.[1] Я думал, ты отдыхаешь в уединении своей комнаты. А оказывается, ты здесь.
— Я знал, что встречу тебя.
В знак взаимного расположения они тронули друг друга повыше локтя.
Яирам Винчипане был сверстником Джакомо, и с первого взгляда было понятно, что оба они принадлежат к одному типу людей. С одним лишь внешним отличием: волосы у Джакомо были светлые и гладкие, а у Яирама — черные и вьющиеся.