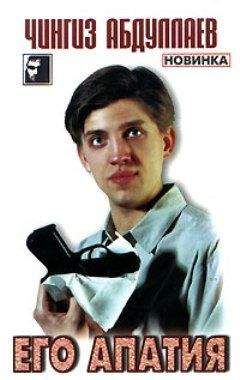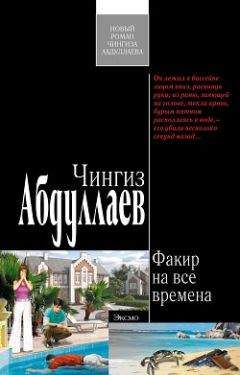Чингиз Абдуллаев - Затянувшееся послесловие
– Значит, понял, что ваш водитель его заметил?
– Понял, конечно. Иначе не стал бы так быстро удирать.
– Сколько людей было в машине? Один или двое?
– Племянник говорит, что один. А может, двое. Он не уверен.
– Теперь вы ищете все машины, похожие на эту?
– Уже нашли. Сорок четыре машины только в городе зарегистрировано. Эта компания продает у нас машины уже давно. Сорок четыре автомобиля такого цвета. Теперь нужно просмотреть список, но я уверен, что там не будет Саламбека Музаева, в этом можете не сомневаться.
– А кто тогда будет?
– Не знаю. Я уже сказал. Может, кто-то из оставшихся в живых афганских родственников решил мстить таким необычным образом. Хотя, за что нам мстить? Наши ребята пытались спасти женщину, даже перевязку ей сделали. А эти бандиты хотели ее не только убить, но и ограбить. Может, кто-то сейчас решил вот таким образом о себе напомнить. А может, это вообще не родственник несчастной пары, которую там убили. Может, родич кого-то из бандитов, которых мы тогда пристрелили. Узнал, что его близких убили и никаких бриллиантов они не получили, вот и решил мстить таким образом.
– Афганцу было бы трудно ориентироваться в Витебске и Нальчике, – задумчиво заметил Дронго, – не говоря уже о том, что у Юлия Дмитриевича есть основания считать, что это был все-таки Музаев.
– Какие основания?
– Разве он вам не говорил о телефонном звонке Гордицкого Ахмету Эльгарову за день до своей смерти? Феликс Макарович сообщил, что у него намечается важное свидание с человеком, которого они считали пропавшим без вести. С бывшим другом. И на следующий день его убили.
– Это еще ничего не доказывает, – нахмурился Шалва. – Знаете, сколько у каждого из нас таких друзей? Особенно после всех этих войн на Кавказе. Сколько пропавших, исчезнувших, затерявшихся, просто забывшихся или уехавших… Даже не сосчитать. Нам, грузинам, досталось за эти годы по максимуму. Сначала апрель восемьдесят девятого, когда убивали наших женщин саперными лопатами, потом девяностые годы… Сначала Звиад Гамсахурдиа стал президентом, а потом начались разборки с осетинами и абхазами. Потом к власти вернулся Шеварднадзе, и произошла гражданская война, когда грузин стрелял в грузина. Потом в Абхазии была еще большая война, когда грузин, составлявших подавляюшее большинство населения Абхазии, просто выгнали оттуда с помощью российских наемников. А потом было еще много локальных конфликтов, и все кончилось войной с Россией, когда у нас отняли Осетию и Абхазию, – вздохнул Шалва. – Извините, что я так говорю, но я понимаю, что вы не русские, хотя, наверное, граждане России. Но я и при русских людях тоже так говорю, ничего не меняя. И при своем друге Юлике Горчилине тоже так говорю.
– Дело не в том, о чем вы говорите. Дело в том, что есть некоторые моменты, на которые я всегда обращаю внимание. В апреле восемьдесят девятого советские солдаты не использовали саперных лопаток и не убивали ими грузинских девушек…
– Как это не убивали? – встрепенулся Шалва.
– Вот так. Это была ложь комиссии Собчака, растиражированная затем по всему миру. Тогда погибли восемнадцать девушек и женщин. Экспертиза точно установила, что они погибли от сдавливания. Это был ужас, трагедия, кошмар. Когда солдаты двинулись на безоружную толпу, люди бросились бежать, и девушки гибли в этой давке. Но лопатами никого не убивали. Вы же грузин, уважаемый Шалва; как вы можете себе вообразить, что русские солдаты бьют грузинских девушек лопатами, а грузинские мужчины спокойно на это смотрят? Почему тогда среди погибших не было мужчин? Все испугались и сбежали? Вы можете в это сами поверить? Никогда в жизни грузины просто не допустили бы, чтобы их дочерей и сестер убивали лопатами у них на глазах.
Шалва мрачно молчал.
– И еще некоторые моменты, – безжалостно продолжал Дронго. – Когда крах политики Гамсахурдиа стал очевиден, Шеварднадзе не просто взял власть. Ему помогали и некоторые «специалисты» из северной страны, и об этом все знали. И тогда, и сейчас. А конфликты в Осетии и Абхазии возникли в результате националистической политики самого Гамсахурдиа.
– Вы приехали с таким антигрузинским настроем? – хмуро заметил Чиладзе.
– У меня бабушка – грузинка, мегрелка, – сообщил Дронго. – Мать моего отца, которую я очень любил и которая меня вырастила, привив вечную любовь к вашему народу и вашей культуре. И поэтому я считаю, что имею право говорить правду. Если народ не боится слышать правду, пусть даже горькую и беспощадную, он непобедим. А если правду заменяют ложью, то тогда прежние идеалы утрачиваются, нравственные идеалы подменяются и народ легко поддается на провокации и обман.
– У меня мама мегрелка, – сообщил заметно повеселевший Шалва. – И все равно – все, что вы говорите, мне очень неприятно слышать.
– Мои сообщения тоже не истина в последней истанции. Человек обязан сам разбираться во всем, что происходит вокруг. Народ обязан давать объективную оценку всему, что происходит с ним в истории. Грузины всегда были на особом положении и в царской России, и в Советском Союзе. Вы всегда немного отличались ото всех остальных. Как любимые, но немного избалованные дети. Даже сейчас, после войны с Россией, вас по-прежнему любят и ценят и в России, и в соседних странах. Эта любовь на каком-то бессознательном уровне, которую трудно даже логически объяснить.
– Поэтому неизвестный убийца приехал убивать меня сразу после убийства Ахмета Эльдарова? – поинтересовался не без иронии Чиладзе.
– Боюсь, что не поэтому. Но если мы признаем тот очевидный факт, что два убийства подряд не могут быть случайностью, то убийца на этот раз действительно появится здесь, чтобы совершить свое очередное преступление. И ваши друзья и родственники, которые сейчас ждут нас в доме, могут вам не помочь. Ведь безжалостный убийца готов на любые жертвы. Машину Феликса Гордицкого он взорвал вместе с ним и с его водителем, который вообще не был ни в чем виноват.
– Но почему, зачем? Кому мы мешаем?
– Я прилетел это выяснить, – напомнил Дронго, – а заодно и кое-что уточнить. Возможно, там, в горах на афгано-пакистанской границе, были какие-то моменты, о которых Горчилин просто не упомянул или не обратил на них внимания. Возможно, вы можете дополнить его рассказ или вспомнить какие-то новые детали.
– Не думаю, что смогу, – признался Шалва. – Я ведь был при пулемете, и, когда они окружили нас со всех сторон, Горчилин приказал мне отстреливаться до последнего патрона. Я старался стрелять экономно, но метко. Пулемет стоял наверху, и при таком обзоре у меня была почти идеальная позиция. Кажется, в тот день я убил восемь или девять человек. Вот такой «людоед» сидит перед вами. В мирной жизни за убийство двоих и более людей дают высшую меру наказания, а на войне – ордена и медали. Мне за тот бой дали медаль, которой я очень горжусь: медаль «За отвагу». Значит, я не самый последний солдат был на той войне… Что там было, я не вспомню. Наступавшие моджахеды обрушили на меня весь свой огонь, понимали, что нужно заставить замолчать именно мой пулемет, иначе им было не подняться к нашим ребятам. Горчилин потом рассказал мне, что стреляли сразу из четырех автоматов. В общем, меня тяжело ранило, и я потерял сознание. Очнулся через некоторое время от сильной боли. Я думаю, что тогда в меня камень попал, прямо в лицо, и рассек кожу, вот здесь, под глазом. Шрам до сих пор остался. Я в себя пришел, чувствую, что сейчас умру. Рядом лежал Феликс, который стрелял из моего пулемета. Я посмотрел в сторону, увидел оторванную ногу в армейском сапоге. Спросил у Феликса, кого убили. Он крикнул мне, что убиты Миша и Самар. Я снова потерял сознание. Очнулся, уже когда меня поднимали в вертолет. А потом узнал, что несколько драгоценных камней мне Юлик положил, в награду. Но я сразу понял, что это ценные камни, и спрятал их в мешочек, который был у меня всегда на груди. Чтобы не отняли бриллианты, я пошел на хитрость: насыпал туда немного песка, и всем, кто меня спрашивал, говорил, что это моя родная земля, которую дала мне мать перед уходом в армию. Врачи и офицеры понимающе кивали и не трогали моего мешочка. Вот так я его и сохранил. И храню дома до сих пор, – закончил Шалва.
– Значит, вы видели погибших?
– Шевченко себя гранатами подорвал, я видел его разорванные останки; а Якубов погиб, и его труп забрали в вертолет. Останки Шевченко наши вертолетчики тоже забрали. Они оба погибли, здесь нет никаких сомнений.
– И вас осталось шесть человек? – уточнил Дронго.
– Да. Но только я был тяжело ранен. И Саламбек был тоже ранен. Сам он пропал больше десяти лет назад, и с тех пор мы о нем ничего не слышали. Я думаю, что он погиб. Не такой он был человек, чтобы долго прятаться и скрываться. Он бы обязательно дал о себе знать.
– Остаются пятеро…
– Уже трое, – поправил своего гостя Шалва. – Я думаю, вы не сомневаетесь, что эти двое тоже погибли. Феликс Гордицкий и Ахмед Эльгаров. Юлик был на похоронах обоих наших товарищей. Значит, остались только трое: я, Юлик и Леонид Субботин. Только представьте себе, что советник российского посольства, известный дипломат, ездит по городам, чтобы убивать и взрывать своих бывших товарищей из-за нескольких бриллиантов, которые он сам честно сдал командиру батальона! Глупо и невероятно. Тогда остаются только двое. Горчилин боится больше всех. Наверное, правильно боится. Ведь больше всего бриллиантов, наверно, досталось ему. И он был нашим командиром. Поэтому он вас и нашел, скорее всего для того, чтобы обеспечить свою безопасность в первую очередь. Тогда остается только один человек. Кавказец, мстительный, горячий, пострадавший тогда больше всех, который фактически всех спасал, а сам ничего не получил, кроме нескольких бриллиантов. Получается, что самый реальный кандидат на убийцу – это я, – невесело закончил Чиладзе, – а вы прилетели сюда не для того, чтобы найти возможного убийцу, а для того, чтобы меня нейтрализовать. И может, я вместе со своим племянником нарочно придумал эту историю про машину, которая якобы за нами следит, чтобы никто меня не заподозрил. Как вы считаете, такую версию можно принять?