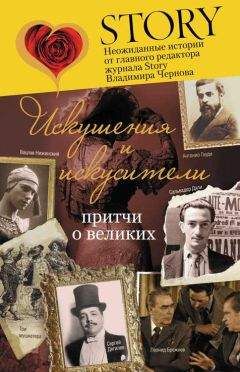Леонид Могилев - Век Зверева
— Старший сержант Костров. Машина ваша?
— Моя конечно.
— Документики будьте добры…
— Буду.
Зверев полез в бардачок, для чего пробрался-таки в кабину с правой стороны, бросил тело на сиденье слева, ключ вставил, повернул, и машина не завелась. Сержант имел при себе табельное оружие, но, пока он его доставал, Зверев уже опередил его:
— Стоять. Не двигаться.
Снова и снова ключ, педаль… нет. Тогда он взял баул и, продолжая испытывать судьбу и длить замешательство милиционера, побежал.
Это — самый центр города. Как занесло сюда Юрия Ивановича? Ведь он все проделал в тот день исключительно грамотно.
Объяснить членораздельно, как ему удалось уйти от всей калининградской милиции, он не смог. Просто он метался: то в проходные дворы попадал, то, угрожая оружием, проезжал квартал-другой на чем попало. В него стреляли. Но ногам. Одна пуля проскочила через мякоть бедра. Вторая раздробила-таки кость на левой ноге. Ведомый инстинктом каким-то диким, отщелкивая клеточки плана города в голове, города, который он и знал-то только в виде плана, он уже часа в четыре утра, перевязав где-то в смрадном ночном туалете ногу, оказался под дверью той квартиры, из которой его выводил однажды Бухтояров. Круг замкнулся.
И здесь фортуна снова повернулась к нему лицом. Неизвестно о чем он говорил ей в первый раз в магазине «24 часа». Но что он мог сказать теперь, через дверь, ночью, после того как навлек однажды группу захвата ФСБ на эту квартиру, — было невозможно представить. Однако его впустили вновь.
Возвращение Зверева
Никому и нигде не могло прийти в голову, что Зверев может опять явиться здесь. Ночь. От шагов на лестнице холодеют затылки жильцов за закрытыми дверями. В городе что-то происходит. Шаги стихли. Тихий разговор через дверь. Долгое молчание, потом опять разговор. Наконец дверь госпожи Гагариной открывается.
— Починила квартиру? Отремонтировала?
И рухнул Юрий Иванович на пол. И кровь стекает на чистые половики. Хорошие знакомые у Тани Гагариной.
Когда Зверев очнулся, раны его были обмыты, перебинтованы, и сам он лежал на тахте. Ночничок горел смирно и весело. Пути Господни неисповедимы. Предметом разговора в ту ночь они выбрали Варшаву. Зверев никогда там не был. Таня была. Он спрашивал, она отвечала.
Потом предутренние бесприютные сумерки стали сжигать их души.
— Дождя бы сейчас, — попросил Зверев.
— Хорошо бы, — подтвердила Таня.
Безумный ход времен и событий снова свел мужчину и женщину, и снова посреди какого-то побоища.
И тогда к ним пришла любовь, и они были любимы этой ночью, что уже заканчивалась двумя свечами, что зажгла женщина на столе, красным вином, которым они укрепили свои силы. И Варшава, — а почему Варшава, ну почему не другой какой-нибудь город? А потому, что пластинка крутилась у нее в проигрывателе тихо, чтобы не будить соседей. В тот раз, не в этот. «На Варшаву падает дождь». Это же такая редкость сейчас. Старый проигрыватель и пластинка такая. Зверев попросил поставить снова, и музыка опять зазвучала.
Он потерял много крови и ослаб. Уснув беспокойным тягостным сном, принимая как должное боль, от которой его больше не защищало ничто, он бредил. Потом, очнувшись, потребовал свой саквояж и успокоился только тогда, когда его поставили за диван, на расстояние вытянутой руки.
К утру у Зверева подскочила температура.
— Друг мой. Я не могу воспользоваться твоим телефоном, а мне очень нужно позвонить.
— А почему нельзя отсюда?
— После той истории телефон у тебя, несомненно, прослушивается. Так что ты уж постарайся. Позвонишь вот по этому телефону. Скажешь, чтобы позвали Олега Сергеевича. Его большой друг в беде, находится по твоему адресу. Не называй ничего конкретного. Там тебя поймут. Но прежде скажи, есть ли у тебя фотоаппарат.
— Был когда-то.
— И что?
— Он неисправен давно.
— И даже «мыльницы» нет?
— Нет. А что? Фотографии на память?
— Возьми в куртке деньги. Сколько там вообще?
Бумажника у Зверева не было. Деньги разного достоинства находились во всех карманах разом. Она насчитала сто пятьдесят тысяч.
— Этого не хватит. У тебя есть еще столько же? Заимообразно.
— Есть конечно. Кстати, последние.
— Пойдешь до ближайшего ларька «кодаковского», возьмешь аппарат, самый дорогой, на какой хватит, и пленку в двести единиц. На двадцать четыре кадра. Две катушки.
— Позвонить по пути?
— Пока не принесешь аппарат и пленку и пока я не сделаю снимки на память, ни в коем случае не звони.
— Тебе врача срочно нужно. Может быть черт-те что.
— А вот черта поминать не нужно. Не люблю. Дай-ка мне пока анальгина. Две таблетки. Водки нет у тебя?
— Тебе нельзя сейчас.
— Мне ногу будто клещами рвут, и жар какой-то. Дай водки.
— Когда вернусь.
Вернулась Таня через час.
— На улицах военные патрули. И тишина.
— Форма-то на патрулях какая?
— Моряки почему-то.
— А это есть хорошо. Военные моряки не выдадут. БТРов, танков не видала?
— Говорят, катаются. Сама не видала. Вот тебе «мыльница». Мексиканской сборки. За сто семьдесят тысяч. И пленка.
— За сто семьдесят так за сто семьдесят. Водки дашь?
Стограммовую бутылочку «Русской», «мерзавчик» собирался выпить Зверев и не смог. Поперхнулся.
— Давай вот что делай. Бери баул. Там такие металлические штучки, ты к ним не прикасайся. Осторожно вынимай папки. Так. Клади их мне на одеяло.
Зверев взял в руки первую. Открыл. В папках этих был уже «дайджест». Не полные дела, а вырванные из папок скоросшивателя страницы. Тот, кто занимался отбором, знал дело. Знал и Отто Генрихович Лемке, за чем он отправлялся в ностальгическую прогулку по Кенигсбергскому краю. Но не судьба. Иван Пирогов да старик из СМЕРШа. Охотовед да мент беглый. А теперь вот — военные моряки. И посоветоваться не с кем. Артист покинул пульт управления.
— Так. Я буду держать вот так, к стеночке приложу, а ты щелкай.
— Так не видно же будет ничего.
— Все будет видно. Магазины «Кодак» — высшее достижение прогресса. Правда, это не «Кодак» никакой. Другая какая-то бражка. Потом под лупой разберут все. Те, кому нужно.
— А как снимать?
— Не ближе метра двадцати, вот там огонек. Это вспышка. Пока он не загорится, не щелкай. Пленку сумеешь вставить?
— Попробую.
Потом Зверев брал листы, подставлял, закрывал глаза, чтобы не видеть вспышек этих самых, потом складывал отснятые листы в стопочку.
Когда кончилась первая кассета, он сам вынул ее, положил рядом с собой на стул, потом вторую…
— Так. Теперь клади папки снова в сумку. Аккуратно сверху — баллончики.
— Это разве баллончики?
— Еще какие баллончики.
Она стала вертеть один в руках.
— Быстро в сумку и осторожно. Взорвется. Так-то вот лучше будет. Хорошо.
— Теперь можно идти звонить?
— Пока нельзя. Прежде складывай камеру в коробку. Бумажки все, инструкции, коробочки из-под пленки. Фольгу, чек товарный. Где чек?
— В пальто.
— Вот чек туда же. Теперь скажи, мусор давно выносила?
— Недавно.
— Значит, мусор изобрети. А коробку с камерой — в пакет и на самое дно. И в контейнер. Но еще лучше — не в свой. Где-нибудь по пути в урну бросишь.
— Жалко.
— Я тебе потом другую куплю. Лучше. И дороже.
— Да может быть, у меня была своя?
— Купленная сегодня? Свеженькая? Не годишься ты для такой работы.
— А я и не напрашиваюсь.
— Это еще не все. Пленки здесь оставлять нельзя. Подумай. Есть ли место надежное?
— Надежное?
— Ну не безнадежное же!
Работала Татьяна Ивановна в университете, на кафедре русского языка и литературы. Дачного участка не имела. Гаража или другой подобной собственности — также. Зверев заставил ее подняться на чердак. Он помнил примерную его «топографию». В конце концов в тайнике, вырезанном в толстом учебнике, пленки Таня отправила на свою собственную фамилию в виде бандероли в город Гвардейск на главпочту. Только не с ближайшей почты, а с дальней. Для чего брала частника. Отправителем, естественно, значился друг детства, давно забытый и потерянный. После этого Зверев заставил ее убрать все клочки и обрезки и только потом разрешил звонить в бункер.
РассказчикСамолет с апологетами миротворчества и справедливости догорал в аэропорту. Армия покинула казармы.
Звонок Татьяны Ивановны раздался около полудня. Вначале иносказания не были поняты, и с нашей стороны положили трубку. Но немного погодя Гагарина позвонила снова и проговорила уже менее прозрачный текст. В час пятнадцать мы занялись эвакуацией Зверева.
Он потерял много крови накануне, некоторое время продолжая перемещаться по городу с простреленной ногой. Махнув рукой на конспирацию, я сдал Зверева в самую классную клинику города, оставив возле палаты охрану. После того, как выяснилось, что пострадала кость, его прооперировали, и теперь он просто спал после наркоза.