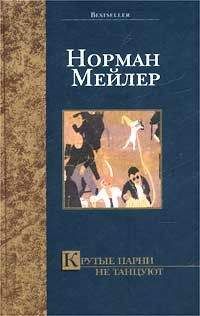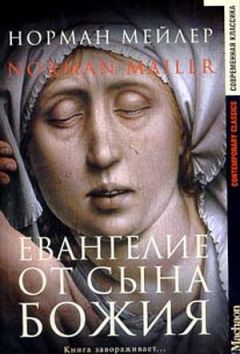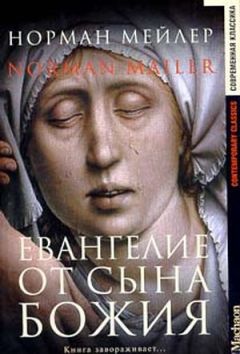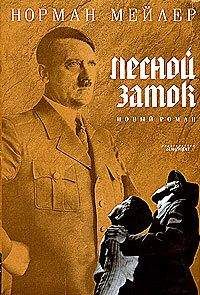Норман Мейлер - Призрак Проститутки
Мы с Розеном начали не очень удачно. К тому времени когда мы добрались до рва у заграждения на восточногерманской границе, наши маскировочные костюмы были все в вонючей грязи. Заляпанные грязью, ничего не видя, мы каждые тридцать секунд вынуждены были пригибаться, чтобы не попасть в полосу света от прожектора, освещавшего грунтовую дорогу и ограждение впереди. Каждую минуту в том или другом направлении проезжал джип. В один из интервалов нам надлежало вскарабкаться по глинистому откосу рва, взобраться на ограду, перелезть через колючую проволоку, пропущенную поверху, и спрыгнуть с высоты четырнадцать футов по другую сторону.
Там, по правилам игры, была свобода!
Однако Розен, казалось, совсем пал духом. Мне кажется, он втайне отчаянно боялся колючей проволоки.
— Гарри, — прошептал он, — я не могу. Я не сумею.
Он был в такой панике, что его страх передался и мне.
— Ах ты, чертов жид, давай перелезай! — рявкнул я на него.
Еще выкрикивая эти слова, я уже хотел взять их обратно, но тем не менее я их произнес, и они навсегда встали между нами, легли черным пятном в моем представлении о себе как о порядочном человеке. Луч прожектора переместился. Всхлипывая от усталости, мы вскарабкались по откосу рва, полезли вверх по заграждению и замерли — тоже навеки — в ярком свете прожектора, нацелившегося, словно ангел смерти, на нас. Буквально через две-три секунды появился джип с двумя вооруженными охранниками — его пулеметы были направлены на нас. Мы провалились. Как и большинство нашей группы. В том числе десять громил. Это упражнение не было рассчитано на то, чтобы подготовить нас к роли восточногерманских агентов, — оно было задумано, чтобы дать нам представление о том, через что некоторым из наших будущих агентов, возможно, предстоит пройти.
На пограничниках была восточногерманская форма, джип же был единственным недостоверным элементом в этой шараде. На нас надели наручники и повезли на большой скорости по идущей вдоль границы дороге к белому дому из шлакобетона. Внутри помещение пересекал широкий проход, по обе стороны от которого были расположены камеры для допроса размером около восьми квадратных футов, в них не было окон, зато стояли стол, пара стульев и сильная лампа с отражателем, который скоро направят вам в глаза. Допрашивающий говорил по-английски с таким сильным немецким акцентом, что мы стали невольно копировать его. Я никогда не видел ни одного из этих людей на Ферме и лишь позднее узнал, что это были профессиональные актеры, работавшие по контракту с Фирмой; незнакомые лица способствовали тому, что все происходящее казалось в тот момент куда реальнее, чем я ожидал.
Поскольку допрашивающие переходили из каморки в каморку по мере того, как поступили новые стажеры, приходилось все дольше и дольше сидеть одному. Напряженный допрос сменялся тишиной ярко освещенных белых стен; по мере того как шла ночь, ты переставал ощущать себя. История, придуманная для моего прикрытия, казалась нелепой, словно мне в голову вложили чей-то чужой мозг. Однако во время допроса легенда стала моей историей. Я узнал, что роль для актера может быть большей реальностью, чем собственная жизнь. Почему же я не понимал, как необходима подготовка? Каждая подробность моей воображаемой жизни, которую я недостаточно продумал, превращалась теперь в дополнительную сложность. Ибо некоторые детали я мог припомнить лишь большим напряжением воли. И наоборот: все, над чем я заранее поразмыслил, становилось моей жизнью. Согласно легенде, после Второй мировой войны я учился в профессионально-техническом училище в Мэннернбурге, недалеко от Лейпцига, и я сумел представить себе, как пахнет воздух, проникавший в окна училища, — в нем чувствовался леденящий душу запах обугленных человеческих тел, дохлых крыс, разбитого камня и отбросов, и я сам чувствовал, что говорю убедительно, рассказывая о моих занятиях там.
— Как называлась эта школа в Мэннернбурге? — спросил мой собеседник. Он был в черной форме фольксполицая и держал в руках внушительную пачку бумаг. Поскольку у него были густые черные волосы и черная бородка, мне трудно было видеть в нем немца, пока я не вспомнил, что у известного нациста Рудольфа Гесса были такие же иссиня-бледные выбритые щеки.
— Die Hauptbahnhof Schule[16], — ответил я. — Так называлась моя школа.
— Чему ты там учился?
— Железнодорожному делу.
— Окончил?
— Да, майн герр.
— Как ты добирался до школы, Вернер?
— Пешком.
— Каждый день ходил пешком из дома?
— Да, майн герр.
— Помнишь свой маршрут?
— Да, майн герр.
— Назови улицы, по которым ты шел.
Я перечислил их. В моем мозгу не только была запечатлена уличная карта, но я помнил все фотографии этих улиц, сделанные после войны.
— Скажи, а тебе обязательно было идти по Шонхайтвег?
— Да, майн герр.
— Опиши мне Шонхайтвег.
Я представил себе улицу, о которой шла речь, и начал рассказывать.
— Это наш большой проспект в Мэннернбурге. Посередине Шонхайтвег, между двух потоков транспорта, был такой травянистый островок.
— Опиши этот островок.
— На нем были деревья.
— Что за деревья?
— Я не знаю, как они называются.
— Были среди них срубленные?
— Да, майн герр.
— Почему их срубили?
— Не знаю, — сказал я.
— Сколько на Шонхайтвег светофоров?
— Пожалуй, два.
— Два?
— Да, майн герр, два.
— Около которого из светофоров были срублены деревья?
— Около второго светофора на моем пути в школу.
— В каком году они были срублены?
— Не помню.
— Думай, Вернер, думай.
— До того как я окончил школу, в сорок девятом году.
— Ты хочешь сказать, что деревья были срублены в сорок седьмом или в сорок восьмом?
— По всей вероятности.
— Ты узнаешь этот снимок?
— Да. Это перекресток у второго светофора на Шонхайтвег. До того как срубили деревья.
Спрашивающий указал на дом недалеко от перекрестка:
— Ты помнишь этот дом?
— Да, майн герр, довоенной постройки. Мэннернбургхоф. Новый дом местного управления.
— Когда он был возведен?
— Не знаю.
— Ты не помнишь, когда его строили?
— Нет, майн герр.
— Ты каждый день шел этим путем в школу и не помнишь, когда строили единственное новое правительственное здание в вашем городе?
— Нет, майн герр.
— Но ты видел его каждый день по дороге в школу?
— Да, майн герр.
— В сорок девятом году ты окончил школу?
— Да, майн герр.
— А в сорок девятом году Мэннернбургхоф еще не был построен.
— Разве не был?
— Нет, Вернер.
— Значит, я что-то спутал.
— Он был возведен в пятьдесят первом году. А деревья были срублены в пятьдесят втором.
Я впал в панику. Неужели меня подвела память и я не запомнил мою восточногерманскую биографию, или же допрашивающий меня лжет?
Теперь он перешел к моей работе в железнодорожном депо. Тут у меня снова были незначительные, но все же бесспорные несоответствия в именах и лицах, да и цех ремонта локомотивов, куда меня направили работать по прочистке, находился не в восточном, а в южном конце депо, но я упорно стоял на своем, потому что, утверждал я, я помню, где солнце находилось утром; тогда допрашивавший оставил меня на полчаса одного, а когда вернулся, задал тот же вопрос.
Я составил себе представление о городе Мэннернбурге на основе изучения фотографий, но картина была неплохая. Совсем как на полотне Ларри Риверса, чьи работы после этого допроса привлекли к себе мое особое внимание, в моем воображаемом Мэннернбурге были пустоты. По мере того как шли часы и продолжался допрос, четкие очертания города начали размываться.
— Почему, Вернер Флюг, ты полез на пограничное заграждение?
— Я не знал, что это граница.
— Хотя по верху проложена колючая проволока?
— Я считал, что это государственный парк. Мы с моим коллегой заблудились.
— Вы находились в запрещенной зоне. Вы это знали?
— Нет, майн герр.
— Мэннернбург находится всего в пяти километрах к востоку от границы.
— Да, майн герр.
— Ты это знаешь?
— Да, майн герр.
— Однако ты идешь по лесу на запад от Мэннернбурга и удивляешься, обнаружив заграждение.
— Мы с коллегой считали, что идем на восток, а не на запад.
— Вернер, при тебе найден компас. Ты вовсе не заблудился. Ты знал, что если сумеешь перелезть через ограждение, то очутишься в Западной Германии.
— Нет, майн герр.
— А где бы ты очутился?
— Это же было состязание, майн герр. Мы поспорили, кто первый перелезет через ограду.
— Глупый ты парень. И от твоей истории тошнит. Он встал и вышел из каморки.
В шахматах, если как следует изучить разные начала, можно играть на равных с далеко превосходящим противником первые восемь, десять, двенадцать ходов — иными словами, пока длится проанализированное тобой начало. После этого тебя как игрока можно списать.