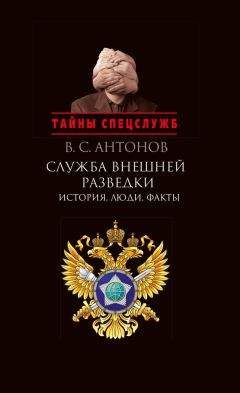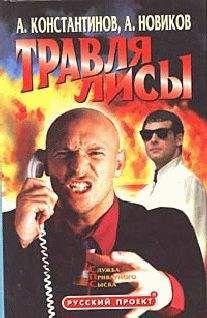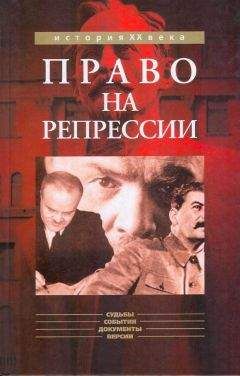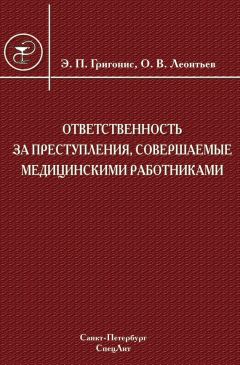Игорь Арясов - Три часа на выяснение истины
— Ай да Маринка, молодчина! — Гусев вернул письмо, улыбнулся. — Здорово она про лекцию в «Октябре» написала. Выходит, Петр Васильевич, не зря мы с вами их читаем? Теперь я понимаю, почему вы смеялись. Товарищ капитан, я знаю, где Глазов живет. Разрешите мне туда быстренько слетать? Наверняка они оставили следы. Честное слово, я аккуратно.
— Так же, как с Серегиным, когда тебя около забора его Тарзан чуть не покусал? — нахмурился Матвеев.
— Ну, Петр Васильевич, — Анатолий вздохнул, — я тогда малость погорячился. Зато вариант с проверкой анонимного письма про факт самогоноварения тут же предложил. Хоть и не нашли самогонный аппарат, я все равно уверен, что Серегин гонит самогонку. Эх, меня там не было, я бы нашел. А у Глазова откуда собака? У него заборчик в полметра. Он и мать на работе. Я только визуально. Разрешите хоть сад посмотреть?
— Хорошо. Но дальше сада не лезь. Если у них все получилось, что они будут делать?
— Ясно, как день. Может, предупредить Одинцова?
— По твоим рассказам, он — честный человек. Подождем от него звонка. Спугнуть продавцов золота мы не имеем права.
31Неожиданный визит Зайцева привел Елену Петровну в шоковое состояние. Она бросила стирку и рухнула на диван без сил. Единственная мысль, которая билась в ней, была: во что бы то ни стало предупредить Василия Митрофановича.
Но как это сделать? Только через два дня он должен заехать за ней и остаться, как обычно, до утра. Сегодня он заступает на дежурство в пожарной части на целых двадцать четыре часа. А потом он должен хоть немного отдохнуть, выспаться, что-то сделать по дому, у него все-таки немалое хозяйство, она это понимает. И лишь к вечеру он приедет к ней. Как же его предупредить? Сейчас всего половина восьмого. Вера с Сашей, как назло, отпросились в кино, оставили на нее Максимку. С ним же не поедешь в поселок Пионерский к Василию. Одной можно рискнуть. Как-нибудь через мальчишек вызвать Серегина на улицу и предупредить. Ведь это очень важно. И, наверное, срочно. Иначе не стал бы ее разыскивать Евгений Александрович и упрашивать, чтобы она молчала в случае чего. Он за нее зря беспокоится. Если ее арестует милиция, она ничего не скажет! Разве она захочет сделать неприятное любимому человеку — Василию Митрофановичу Серегину? Вот где, товарищ Зайцев, собака зарыта, и вам об этом ни за что не додуматься. Вы даже догадаться не можете, что у меня, простой бабы, может быть такая глубокая и преданная любовь. Вы вон каких фифочек выбираете себе в жены, аж ее тронуть боязно, того гляди развалится или сломается, как чашка фарфоровая. А мы люди простые, не особенно гордые. Нам настоящая нежность только раз в жизни дается, как орден, как награда за наше долготерпение.
Но как же в самом-то деле предупредить Василия? Остался всего какой-нибудь час, и Вера с Сашей придут, на улице пока еще не очень прохладно, дождя не должно быть. Решено, так и сделаю!
Она попросила соседку присмотреть за Максимкой и, торопливо одевшись, пошла на автовокзал. Время было позднее, и Елена Петровна сообразила, что можно доехать до Василия междугородным автобусом, который проходит в каком-нибудь километре от Пионерского.
Всего через полчаса Елена Петровна уже шла справа от широкой дороги, ведущей в поселок, по длинной аллее, с двух сторон обсаженной могучими тополями, кроны которых переплелись наверху и образовали тоннель.
Но чем ближе подходила она к крайней улице, где вторым от въезда стоял за высоким забором дом Василия, тем неувереннее становились ее шаги. А вдруг Клавдия дома, и ей не удастся вызвать незаметно Серегина на улицу?
Бог ты мой, подумала Кудрявцева, как же я не догадалась взять с собой бумагу и авторучку? Я бы написала ему записку без подписи, что-нибудь придумала, и он бы обо всем догадался. А можно и завтра с утра, нет, даже сегодня после двенадцати ночи позвонить ему на работу из любого телефона-автомата и предупредить об опасности. Наконец, можно просто подойти к пожарной части, попросить, чтобы Серегина вызвали на минуту, и все объяснить. Да, так и надо было сделать и не мчаться сломя голову сюда, в этот чужой, незнакомый поселок, куда она приезжала только на машине Серегина, стараясь как-то съежиться в салоне, сделаться маленькой, чтобы ее никто не увидел.
А теперь неужели поворачивать назад? Нет, это глупо, надо хотя бы дойти до его дома, и можно со стороны огородов, где ее никто не заметит, посмотреть в щелочку в заборе, есть ли кто там. Может, Клавдия куда-нибудь уехала, может, он вызвал ей «скорую помощь» и ее увезли в больницу. Ведь она тяжелобольная, он скрывает от нее правду, которую знает о ее болезни, он щадит ее, ну, конечно, это правильно, это по-человечески понятно, она должна доживать свои последние месяцы спокойно.
Вот здесь надо свернуть влево, как раз узкая тропинка проложена кем-то, по ней, видно, редко ходят, потому что травой заросла, а ведет она прямо к дому Серегина, а потом тянется вдоль его длинного забора и пропадает где-то там, впереди.
Елена Петровна с гулко бьющимся сердцем прошла начало забора, посмотрела назад — никого, впереди — тоже пусто, и стала искать щелку. Хороший забор, добротный, сразу видать, что хозяин его ставил настоящий. А вот сучок, совсем уже темный. Попробую-ка я его пальцем выдавить. Ага, упал в огород. И все отлично видать.
Кудрявцева жадно приникла к дырочке и чуть не отпрянула. В нескольких метрах от нее с ведром теплой, чуть парившей воды стояла женщина, стройная, не худая и не полная, с крепкой высокой грудью, сильными ногами, в коротком без рукавов платье. Она мыла светлой серой тряпкой красные «Жигули». Она мыла их тщательно, ласково, повернув лицо к Елене Петровне, и Кудрявцева не только видела ее загорелое, почти без морщинок и крема курносое лицо, но слышала ровное дыхание и плеск воды. Женщина напевала. Елена Петровна прервала дыхание и услышала слова песни: «Без меня тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, хоть это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы еще споем».
Елена Петровна почувствовала, как сердце ее кто-то беспощадный сжал тугим, колючим и холодным обручем, потом ее бросило в жар. А к женщине, напевающей песню, из гаража вышел Василий и, к ужасу Кудрявцевой, погладил ей грудь, а потом, пригнув свою большую гривастую голову к ее голове, запел: «Ла-ла, ла-ла. Ла-ла, ла-ла!» — и улыбнулся ей так щедро и бессовестно, что Елена Петровна едва не потеряла сознание.
— Ах ты, моя певунья! — ласково сказал Василий. — Давай-ка я дальше сам вымою, ты иди кофточку накинь, а то еще горло застудишь. А что ты привязалась к этой песне? Она, кажется, вышла из моды.
— Нет, Вася, песня, которая для души, никогда из моды не выйдет. Сейчас, милый, я еще вот тут протру немного. Ты кушать-то не хочешь? А то ведь когда еще завтракать будешь. А нам с тобой и прилечь, отдохнуть надо.
— Отдохнуть, Клавочка, и правда хорошо. А поесть мы всегда успеем и в старости, — засмеялся Серегин.
Дальше Елена Петровна слушать и смотреть весь этот ужас, стыд и кошмар не стала. Она шла, не видя тропинки, с лицом, залитым слезами, спотыкаясь о кочки, как пьяная, шатаясь от горя. Один раз она поскользнулась на росной траве и упала ничком на землю, катаясь по ней, била изо всех сил кулаками в траву и давилась слезами.
Иуда. Оборотень. Мерзавец. Подлец. Негодяй. Свинья. Хам. Предатель. Фашист проклятый — вот кто этот Серегин с его грязными ручищами, с его гадкой улыбкой, с его длинным и волосатым, как у обезьяны, телом, с его идиотской улыбкой, с его тупыми, маленькими, словно у крысы, глазами. Мерзость и пакость!
И это он говорил, что жена его — полутруп. Эта цветущая, крепкая, здоровенная девка — на последнем издыхании, что у нее отрезали левую грудь, которую он только что хватал рукой, скотина такая. Да она моложе, она даже тоньше, она здоровая, как слониха, она же вся под стать ему. И еще пела эту песню, подлая! А он-то, он-то каким ужом перед ней извивался. И это он, который на мое золото купил машину, а она, ничего не зная, мыла ее, да еще с ним вместе мурлыкала, кошка облезлая!
А я в это время мчалась к нему, чтобы предупредить, чтобы спасти, чтобы оградить его от заботы. Я-то приготовила себе отраву, чтобы никому ничего не сказать, потому что я любила эту ничтожную тварь, мерзкого обманщика. Он и меня обманывал, и ее, свою Клаву, тоже обманывал. Но меня он обманывал больше и бессовестнее, потому что приходил ко мне на час, на ночь, на пять минут, чтобы, как паук-кровосос, выпить из меня золото, вытянуть его и уползти в свою паучью нору к своей паучихе. Он пошел сейчас с ней в дом, она приготовила ему ужин, постелила постель, и он будет с ней до половины двенадцатого, а потом прыгнет в мою машину и помчится на дежурство.
Ох, какая же я несчастная дура, какая слепая баба, поверила лживым словам такого пройдохи. Нет, я не буду его жалеть!
![Юрий Мишаткин - Особо опасны при задержании [Приключенческие повести]](/uploads/posts/books/133581/133581.jpg)