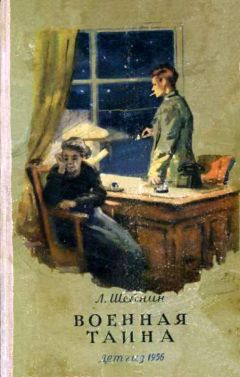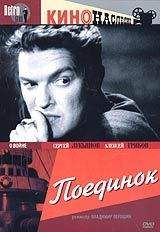Лев Шенин - Военная тайна
В ответ на расспросы Леонтьева и Свиридова, чем именно показался ему подозрительным Петров, Бахметьев поделился своими соображениями.
По мнению Бахметьева, в излишней шумливости Петрова, в его манере щеголять псевдонародными оборотами речи, в его постоянной манере подчеркивать свою любовь к Ивановской области и свою глубокую осведомленность о ее экономике, сырье, флоре и фауне, наконец даже в том, как он смеялся, — слишком заливисто и часто, неестественно, с напряжением запрокидывая голову (искренне смеющийся человек всегда свободен во всех своих движениях), — во всем этом была какая-то нарочитость, какая-то тонкая, хорошо продуманная, но все-таки игра.
Бахметьев обратил внимание также и на речь Петрова, точнее на то, как он говорил. У него было безупречно правильное произношение, вовсе отсутствовал какой бы то ни было акцент. Но и самая безупречность его произношения была чрезмерна; Петров чересчур четко произносил слова, добросовестно «выговаривая» каждый слог, и Бахметьеву показалось, что в манере Петрова строить фразу и произносить ее есть опять-таки какая-то нарочитость, напряжение, точнее всего — старательность. Так обычно говорят иностранцы, хорошо владеющие русским языком, но для которых тем не менее он остается языком чужим.
Бахметьев еще обратил внимание на тонкое, едва ощутимое благоухание, которое как бы излучал руководитель «делегации». Это был тот особый, годами въевшийся во все поры кожи аромат, которым отличаются мужчины, привыкшие к каждодневному употреблению душистого одеколона, мыльной пасты и курению пряного, с медовым запахом, табака. Этот аромат не вязался с простецкими манерами Петрова и его заявлениями (кстати, тоже чересчур частыми) о том, что он потомственный токарь, пролетарий «от станка».
Изложив эти наблюдения и признавая, что они все же недостаточны для каких-либо определенных выводов, Бахметьев добавил:
— А в общем, конечно, все это может оказаться чепухой и проявлением чисто профессиональной, чрезмерной подозрительности. Я поэтому и решил поехать с ними вместе до штаба фронта. Там, на месте, связаться с Москвой, а если понадобится, и с г. Ивановом и выяснить все досконально. Ошибся — буду душевно рад и сам вместе с вами над собой посмеюсь, а лишняя проверка еще никогда никому не мешала… Что же касается вас, товарищ Леонтьев, то мои ребята поедут с вами до Москвы и там сдадут вас, как говорится, с рук на руки. Мне же все равно надо было по делам подъехать в штаб фронта.
Свиридов и Леонтьев с интересом выслушали Бахметьева, в глубине души не разделяя его подозрений, и пожелали ему счастливого пути.
Пока шел этот разговор, над землянкой собиралась ночная гроза. Была темная, облачная ночь. Тяжелые тучи торопились куда-то на запад, подгоняемые резкими порывами сильного ветра. Где-то далеко фиолетовая молния расщепила свинцовое небо и мгновенно потухла. Закричали лесные птицы, разбуженные громом и шумом взволнованного леса. Уже первые капли будущего ливня тяжело» пали на хвою деревьев.
Свиридов, Леонтьев и Бахметьев вышли из землянки на шум грозы. Все новые молнии зловеще освещали небо кривыми, ломаными росчерками. Ветер усиливался с каждой минутой, раскачивая верхушки сосен, как колокола. Они гудели неустанно и тревожно. Начался ливень. Потоки воды с силой били по стволам деревьев, брезенту орудийных чехлов и насыпям землянок. Раскаты грома становились все продолжительнее и чаще. Где-то с треском рушились старые сосны. Озеро выло от страха.
— Разошлась небесная артиллерия, — произнес Свиридов, с интересом наблюдая грозу. — Прямо артподготовка перед наступлением.
Как бы в ответ на эти слова в небе загорелась огромная молния. Она пылала долго, излучая мертвый фиолетовый свет, похожая по форме на гигантский изломанный крест. С визгом, как шрапнель, посыпался град, величиной с лесной орех, со звоном рассыпаясь по земле. Чудовищный удар грома заколебал почву. Потоки воды стремительно пробивали в лесной чаще новые русла.
Оставаться на воздухе было невозможно. Свиридов побежал к себе, а Бахметьев и Леонтьев — в землянку последнего.
— Давайте простимся, — сказал Бахметьев. — Вам давно пора отдыхать. Спите спокойно, после такой грозы будет великолепное утро.
— Да нет, мне совсем не хочется спать, — возразил Леонтьев. — Вот еще выкурим по одной в темноте, без света. Садитесь на койку, будем мечтать, как в юности. Мне хочется иногда помечтать. Я говорю вам об этом откровенно, майор, во-первых, потому, что темно, а во-вторых, потому, что вы мне симпатичны. Мне приятна ваша сдержанность, даже то, что у вас немного грустные глаза. Простите, что я так прямо об этом говорю. Завтра мы разъедемся и, кто знает, увидимся ли когда-нибудь вновь… Впрочем, верю, увидимся! Мы должны увидеться! И знаете что? Давайте дадим друг другу слово — после войны встретиться у меня. На Чистых прудах. Там я живу. Я сварю вам настоящий глинтвейн, черный кофе, сыграю Шопена: я немного играю. Будем сидеть всю ночь. Пусть это будет первая мирная ночь… Бахметьев, вы представляете себе первую ночь после такой войны, после победы?.. Мы распахнем все окна в квартире настежь — к дьяволу затемнение! Напротив будут дома с такими же ярко освещенными окнами. На бульваре будут петь и смеяться девушки. В небе будут бушевать фейерверки. И мы с вами будем подпевать девушкам и вспоминать эту ночную грозу… Так даете слово?
Бахметьев встал и очень серьезно сказал:
— Даю. Честное слово даю!
Они пожали друг другу руки. Леонтьев, помолчав, добавил:
— Вот видите, какой я мечтатель. Но это будет удивительно хорошо! Я не кажусь вам смешным?
— Нет, — ответил Бахметьев. — Это совсем не смешно. Это мудро. Должно, обязательно, необходимо мечтать! Так говорил Дзержинский. Мечтая, люди перестраивают свою жизнь, делают замечательные открытия, ломают оковы и движутся вперед… И горе тому, кто разучился мечтать.
12. ДОМИК В СОКОЛЬНИКАХ
Около трех часов ночи пост № 15 службы наблюдения и оповещения ПВО Московской зоны, расположенный в районе Клина, зафиксировал прерывистый рокот одиночного немецкого самолета, шедшего на большой высоте по направлению к столице. В ту же минуту об этом были оповещены штаб ПВО и соседние посты. Через некоторое время этот же самолет «засекли» посты № 16, 17, 19 и 21. Сомнений не было: вражеский самолет шел с разведывательной целью или для того, чтобы выбросить в удобном месте парашютистов.
В штабе приняли решение «снять» этот самолет.
Через десять минут истребитель, управляемый лейтенантом Морозовым, обнаружил на высоте 1300 метров немецкий самолет, который шел вниз с приглушенным мотором. Очевидно, немец выбрал необходимую точку для выброски груза или десанта. Морозов, не раздумывая, пошел за немцем, неожиданно зашел ему сверху в хвост и двумя очередями зажег самолет. Окутанная пламенем машина камнем полетела вниз, оставляя за собой длинный дымный след.
К месту падения сбитого самолета выехал оперативный дежурный ближайшего воинского соединения и нашел там обломки машины, обгоревшие, изуродованные трупы летчика и двух мужчин в штатском платье. По-видимому, мужчины в штатском были немецкими агентами, которых собирались выбросить на парашютах в этом районе. И действительно, в кармане одного из них обнаружили записную книжку с разного рода заметками подозрительного характера, несомненно шифрованными.
Позднее следственным органам удалось расшифровать одну заметку. В ней значилось:
«Сокольники… Зимнее утро… Лыжи… 17… Наталья Михайловна».
И через два дня в поле зрения следственных органов появилась «исполнительница лирических песенок», артистка Мосэстрады Наталья Михайловна Осенина, проживающая в доме № 17, по одной из просек в Сокольниках. Уже знакомый нам старенький домик в Сокольниках стал объектом тщательного и осторожного наблюдения. Среди немногочисленных посетителей этого домика была отмечена и добродушная старушка с неизменной сумкой-«авоськой» — Мария Сергеевна Зубова.
Хозяйка этого домика в Сокольниках оказалась вдовой некоего Шереметьева, в свое время репрессированного за антисоветскую деятельность.
Вскоре и вдова Шереметьева, и «исполнительница лирических песенок» и, наконец, Мария Сергеевна Зубова были арестованы. Дело это было поручено старшему следователю Ларцеву.
Когда Зубову спросили, почему она, жена ленинградского профессора, так долго живет в Москве, та ответила, что ждет от своего мужа из Ленинграда совета, куда ей ехать и как дальше быть.
— Уж очень худо мне было в Челябинске, — сказала она. — Вот в Москву и бросилась, гражданин следователь.
— Откуда вы знаете Наталью Михайловну? — спросил Ларцев.
— Да мы с нею в поезде познакомились, когда я из Челябинска ехала.