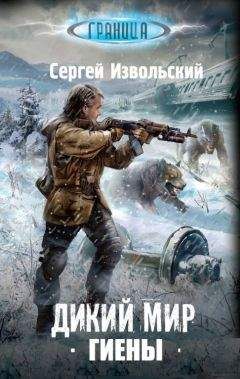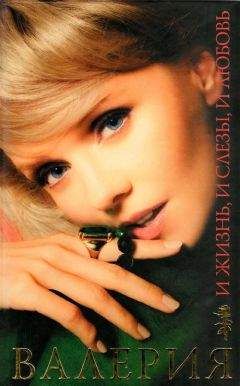Сергей Сергеев - Заговор
А люди занимаются повседневными делами. Может, им заплатили, чтобы они вышли на демонстрацию? Нет, она сама видела эти возбужденные глаза, перекошенные от крика рты, протянутые к ней руки. Такое не купишь.
Беназир представила узкие улочки старого города. Лавки, повозки, рикши, крики торговцев.
В детстве она любила смотреть на садовника. Окончив работу, он устраивался в тенистом уголке сада и ловко нарезал на низенькой скамейке свежие огурцы, морковку, перец, сочные помидоры. Потом бросал накрошенные плоды в котелок и варил на огне свою похлебку, обильно сдабривая ее специями.
Родители запрещали Беназир заходить в эту часть сада, но она не могла отказать себе в удовольствии. Похлебка в помятом медном котелке казалась самым вкусным блюдом на свете.
Садовник смотрел на нее озорными черными глазами, подмигивал и постоянно напевал смешные мелодии. Ей становилось весело и спокойно.
Жаль, что она так ни разу и не осмелилась попробовать дымящееся варево. Но садовник угощал ее свежими лепешками, запеченными на внутренней стороне глиняной печки, врытой в землю и прикрытой от дождя и пыли черной от копоти крышкой.
Брать лепешки родители не запрещали, и Беназир разрывала белую мякоть с хрустящей корочкой своими крепкими и ровными зубами. Она никогда не знала, что такое кариес, и могла разгрызать даже орехи.
Семья владела огромными поместьями. Никому и в кошмарном сне не могла прийти мысль обидеть ее. А теперь ее запирают, как опасного зверя. За что? Разве она хочет принести кому-то зло?
Ну разумеется, некоторым не поздоровится, если она придет к власти. Прежде всего тем, кто виновен в гибели ее отца и в ее свержении. Этим жирным, гадким котам.
Да, им не поздоровится. Но всем остальным будет лучше. А таких большинство.
А вдруг все опять исчезнет? И эта комната, и знакомые запахи в саду, и пыльные улицы.
А вместо них черная пропасть одиночества. Лучше не жить совсем, чем жить так, как последние годы в Лондоне.
Да, там комфорт. Но она перестала его замечать. Просыпаться каждое утро с ощущением выброшенности, ненужности, как будто все уже в прошлом. Плакать в подушку и ломать от отчаяния пальцы. Нет уж! Это не повторится.
Однако странно, что люди заняты своими мелкими делишками. Наверное, им все же не сказали, что она одержала победу и опять свободна.
– Вы передали информацию о моем освобождении? – спросила Беназир у начальника штаба.
– Власти уже сообщили.
– При чем здесь власти? Немедленно дайте информацию в прессу. Я намерена завтра выехать в столицу.
Начальник штаба кивнул с непроницаемым видом.
Он был, пожалуй, единственным из окружающих ее людей, на лице которого она никогда не видела испуганного выражения. Остальные, услышав ее властный голос, каменели и нервно вздрагивали.
«Мне никто не может причинить вреда в моей стране», – подумала Беназир.
Она знала, что это не так, но не хотела в этом признаться.
– А добро возвращается? – Валерия надела на открытие театрального фестиваля длинное шелковое платье, которое тесно облегало ее стройную фигуру.
Может, стоит одеться поскромнее, подумал Питер. Но что-то подсказывало ему, что сегодня вызывающе нарядно будут одеты все женщины – и европейские и восточные. Так всегда бывает во времена кризисов, стихийных бедствий, насилия и потрясений. Женщины, словно нарочно, хотят подразнить судьбу, компенсировать свои переживания и показать, что нет ничего сильнее их красоты.
Они чувствуют, что в эти драматические моменты мужчины воспринимают действительность с болезненной обостренностью, и, повинуясь извечному инстинкту, идут им навстречу.
Питер любил эти состояния нарушенного равновесия, и ему было приятно, что Валерия тонко уловила звенящую в воздухе напряженность.
– Добро обязательно возвращается, – сказал Питер. – А любовь не возвращается, если ее упустишь.
– Получается, что любовь и добро – абсолютно разные вещи.
– Совершенно точно. Могу доказать это на примере. Если мы займемся сейчас любовью, то не попадем на открытие фестиваля. А это можно расценить как зло.
– Ты меня запутал, собирайся скорее, – посоветовала Валерия.
Питер только-только появился, времени на сборы оставалось в обрез. Сейчас он проявлял чудеса ловкости, одновременно бреясь, повязывая галстук и отвечая на мудреные вопросы дотошной Валерии.
– И все же не могу понять, неужели Беназир не боится? Она женщина. Откуда такое бесстрашие? Она любит кого-либо?
«Она не даст мне собраться, – подумал Питер. – Лучше ответить. Иначе она обидится. Пока будем мириться, о фестивале можно забыть».
– Я уверен, что Беназир любит, она страстная женщина, – мужественно ответил Штайнер.
Похвалив себя за терпение, он тут же вспомнил, что, побрившись и успешно завязав галстук, по странной случайности забыл надеть парадные брюки. Кажется, они в гардеробной, справа.
– Это очень хорошо, что Беназир любит. Красивая женщина должна уметь любить, – уверенно сказала Валерия. – И все же мне за нее страшно.
– Я готов, – сказал Питер.
– Не думаю, что Беназир боится, – задумчиво сообщила Валерия. – Это не в ее характере.
– Понимаешь, в чем проблема. То, что сейчас происходит, я бы назвал трагедией ошибок. Каждый оценивает ситуацию по-своему, и каждый ошибается. Беназир не желает видеть опасность и недооценивает риск для своей жизни. Ее противники не понимают, что она играет всерьез, и хотят ее попугать. А потом появится третья, дьявольская сила, и сценарий пойдет так, как этого никто не ожидал и не хотел.
– Я вижу, ты хорошо подготовился к театральному фестивалю, – с иронией заметила Валерия. – Но мы опаздываем!
– Побежали, – охотно согласился Питер.
Открытие театрального фестиваля превзошло все ожидания. Казалось, что своим участием в этом празднике интеллигенция бросала вызов военным и их нелепому чрезвычайному положению. Судя по раскрасневшимся лицам, запрет на спиртное обходили весьма успешно.
– Не хотите освежиться? – предложил Питеру знакомый предприниматель. – Подниметесь на пятый этаж, второй номер справа по коридору. Хозяин гостиницы сказал мне, что там наливают. В обстановке строгой секретности. Этот номер обошелся ему дороже, чем все угощение на первом этаже.
Судя по тому, что внизу столы ломились от вкусностей, которые щедро выкладывали на большие тарелки официанты в белых смокингах, хозяин гостиницы выставил для особо избранных самые дорогие импортные напитки.
– Э-э-э… я дал один евро пятьдесят сантимов, и все проблемы были решены, – услышал Питер за спиной самодовольный голос с явным французским акцентом.
«Какой-то французский жмот. Они уверены, что за полтора евро здесь можно решить любую проблему», – раздраженно подумал Питер и уже взял Валерию под руку, чтобы пройти в глубь зала, но ему помешали.
– Герр Штайнер, мой друг! – Француз театрально раскинул руки, имитируя при этом характерный немецкий выговор.
Питер обернулся и узнал его.
– Мсье Ален Дюпре! Рад тебя видеть, старина! Столько лет прошло! – И так же театрально добавил: – Приветствую вас, господин президент!
– Бонсуар, мсье генеральный директор! – тут же ответил Дюпре, подхватив шутку, которой они обменивались каждый раз при встрече.
Приветствие всегда было одним и тем же. Только иногда они менялись местами. Питеру доставалась роль то президента, то генерального директора, в зависимости от изменчивого настроения француза.
Когда Дюпре чувствовал душевный подъем, он наделял Питера званием «господин президент», а в моменты депрессии, мизантропии и раздражения понижал его статус до «генерального директора». Сейчас настроение было на высшей отметке.
Питер с удовольствием представил Дюпре Валерии и, взяв француза под локоток и извинившись перед своей спутницей, на несколько минут отвел его в сторонку.
– Ха-ха, наши немецкие друзья! – с тевтонским акцентом, но сильно в нос прогоготал по-гусиному развеселившийся Дюпре.
Питер деликатно рассмеялся, отдавая дань ностальгическому настроению своего приятеля, корреспондента известной французской газеты и по совместительству сотрудника Службы внешней разведки Франции.
Дюпре передразнивал немцев неспроста. Только Питер знал, в чем тут дело.
В свое время, когда Франция резко развернулась к созданию стратегического союза с Германией, в Париже появилась закрытая инструкция, требующая от французских дипломатов обязательно использовать выражение «наши немецкие друзья» в беседах с представителями других стран. Это предписание казалось Дюпре верхом чиновничьего тупоумия, и он в минуту пьяного откровения рассказал о нем Питеру.
Потом они еще не раз вспоминали об этом негласном требовании, и когда Дюпре хотел поддеть Штайнера, он то и дело ерничал в разговоре: «Наши немецкие друзья», или, что намного хуже: «Наши друзья боши», а потом нередко добавлял не совсем цензурное слово.