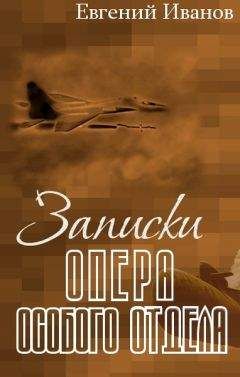Вадим Пеунов - Последнее дело Коршуна
В груде бумаг внимание полковника привлек листок, отличавшийся от других своим серожелтым цветом. Иванилов прочитал:
«Нина! Я не могу больше выносить подобного двойственного положения. Ты прекрасно знаешь мои чувства к тебе, но пока слабо отвечаешь взаимностью. Неужели этому виною разница в наших годах? Я тебя люблю гораздо сильнее, чем твой Дробот. Что хорошего ты в нем нашла? Я же не протестую, чтобы он считался твоим братом. Но мы с тобой должны встречаться чаще и открыто. Разреши мне приехать к тебе в Рымники. Я скоро буду в тех краях… Целую твои ручки. Я. Кр…
P. S. Два слова об Анне. Неужели ты не видишь, что она перестала быть человеком? У меня к ней никогда не было любви, ты это сама прекрасно знаешь… Не пишу много, надеюсь на скорую встречу…».
Листок был тетрадного формата. Почерк довольно корявый. Бумага слегка пожелтела. Синие чернила поблекли.
«Письмо фальшивое», — было первой мыслью всех чекистов. Но полковник спросил:
— А как же оно могло очутиться в бумагах Дубовой? Давайте обсудим его содержание. Оно подтверждает версию о том, что у Дубовой в Пылкове был близкий человек, «не брат», что связь их старая, но все же скрытая. Хотя письмо и без даты, но просьба разрешить приезд в Рымники должна предшествовать посещению Крижачем квартиры Дубовой полгода назад. Отношение Дубовой к Яну еще неопределенно. Тут уже упоминаются и причины: разница в годах и история с Анной Заяц. Завершается письмо характерной подписью: «Я. Кр…» и закорючка, как на телеграмме. Итак, письмо подтверждает многие из наших первоначальных версий.
— Но Дубовая, как советский человек, стоит выше тех подозрений, которые на нее бросает письмо, — возразил Долотов.
— Отдадим письмо на экспертизу, — примиряюще согласился Иванилов. — А теперь я вам покажу еще один документ. Помните, Иван Иванович, вы как-то дали мне список знакомых и друзей Дубовой, которые проживают или могут проживать на территории западных областей Украины. По нему я сделал несколько запросов, в том числе и на родину Дробота. Из родных у него в селе Глухово проживала сестра, наложившая на себя руки в первые дни оккупации, и старая мать, которая умерла в 1944 году. Отец его, Андрей Дробот, бедняк из бедняков, был отличным бондарем, но много пил. Пьяный, тиранил жену и детей. В двадцать пятом году входил в состав кулацкой банды, а потом принимал активное участие в ее разгроме. Был ранен. После выздоровления ушел в город и исчез бесследно. Виталий Андреевич жил на средства старухи матери. Кончил Харьковское педучилище. В 1940 году взят в армию. В 1945 году проведал односельчан и с тех пор в селе не бывал.
— Все это известно из автобиографической анкеты, — заметил капитан. — Только о том, что отец у него состоял в банде, а потом участвовал в ее разгроме, я слышу впервые. Он обязательно должен был сообщить об этом факте при приеме в партию.
Иванилов достал из несгораемого шкафа стандартный лист писчей бумаги, исписанный с обеих сторон мелким, бисерным почерком.
— Характеристика, которую дал Виталию Андреевичу Дроботу его бывший командир. В ней значится, что за время пребывания в партизанском отряде Дробот проявил себя мужественным, находчивым разведчиком, инициативным и смелым командиром. Неоднократно отличался при выполнении особо важных заданий. В самое трудное для партизанского отряда время — зимой 1943 года — вступил в партию. Во время приема в партию он рассказал, что его отец в 1925 году был подкулачником. Самому Виталию в это время было восемь лет.
— Я знаю Дробота именно таким, каким его охарактеризовал полковник Сидорчук. Но вот дома он… Есть в его характере что-то такое, — должно быть, отцовское, — деспотическое, что нет-нет да и прорвется. Как-то странно он относится к жене. Словно к части своего имущества. А она человек способный, даже одаренный.
— Это, Иван Иванович, опять психология: В нашем деле приходится, правда, и ее учитывать. — Полковник взглянул на часы. — Ну, мы с вами засиделись. Пора и по домам. Завтра предстоит большая работа. Кстати, Иван Иванович, помните, какую оценку получил первый вариант книги «Дорогою подвига»?
— Конечно. Писателя Лимаренко тогда обвиняли в том, что он чересчур выпятил фигуру Дробота и не показал силы патриотизма народа, его массового героизма.
Убирая со стола в шкаф характеристику на Виталия Андреевича, полковник как бы про себя заметил:
— Все-таки занятная личность этот Дробот. Как вы думаете, Иван Иванович?
Он ушел
Пелагея Зиновьевна вернулась домой и застала дочь на кушетке. Закусив от жалости к самой себе кулачок, Зиночка неподвижно сидела в той самой позе, в какой ее оставил Виталий Андреевич. Последнее его «прощай» все еще звучало в ее ушах.
«Он ушел навсегда. Но почему ушел? Он же меня любит… я это вижу. И ушел… Почему?»
Зиночка подняла навстречу матери мутные, воспаленные глаза, в которых застыли слезы.
— Ушел, — ответила Зиночка на безмолвный вопрос матери. — Совсем ушел…
Пелагея Зиновьевна в душе твердо решила, что управу на своевольство «этого Виталия» надо искать в обкоме. «Схожу к секретарю Степану Васильевичу Кудю, расскажу ему все без утайки. Он депутат, я за него голосовала. Все говорят, что он самостоятельный человек».
Но, когда Пелагея Зиновьевна узнала, что Виталий Андреевич «ушел совсем», она облегченно вздохнула. «Слава богу. Теперь не надо будет никого беспокоить». И она повторила вслух:
— И слава богу…
Пелагея Зиновьевна подошла к дочери, хотела по привычке пригладить ее растрепавшиеся волосы, но раздумала.
— Привела бы себя в порядок, что ли. А то похожа на… — Пелагея Зиновьевна не договорила, на кого похожа Зиночка, и вздохнула. — Прохвост окаянный, еще корчит из себя порядочного.
— Мама, почему ты не любишь его? Он же хороший человек. Его все так уважают.
— Кто это его уважает? — вспыхнула мать. — Такие, как ты которых он обманывает, да те, кто его еще не знает.
— Мама! Неправда это. Неправда. Он хороший человек. Он и… тебе купил подарок.
Зиночка поспешила в комнату и вернулась оттуда с шалью в руках.
— Вот…
Мать побледнела, схватила шаль и швырнула ее на пол.
— Я… своей дочерью не торгую… — Голос ее стал резким. — Слышишь! Не торгую. Так и передай ему. А для подарков у меня есть сыновья.
— Мама, — зарыдала Зиночка. — Он же меня любит! Хочет с женой разводиться.
— Дура! Набитая дура! Больше мне нечего тебе сказать. Разве в одной женитьбе депо? А совесть-то где твоя?
После размолвки с матерью Зиночка осталась наедине со своими тревожными думами. Как быть? Хотелось, чтобы случилось что-то необыкновенное. Например, развалился бы дом… или земля остановилась в своем вечном беге. Порой Зиночке начинало казаться, что мать права в своих нареканиях на Виталия. «Зачем я ему нужна?» Потом думала с горечью: «Ну и пусть он ушел от меня навсегда. Мне остается его сын». Но постепенно все ее мысли свелись к одному: «А… все равно… Лишь бы пришел. Хоть разок…».
Зиночка решилась объясниться с Виталием Андреевичем последний раз. «Увижу его один разочек, и все. Всего один раз. А потом уже никогда не буду с ним встречаться».
Она вырвала из блокнота цветной лист бумаги и быстро написала записку. «Отнесу и передам в руки». Но идти к Дому народного творчества у нее не хватило сил.
Листок бумаги, который нес ее любовь и ее муку, она сложила вчетверо и надписала: «Виталию». Затем вложила в конверт и еще раз надписала: «Областной Дом народного творчества, директору Виталию Андреевичу Дроботу. Лично».
Но сразу отправить так и не решилась. Это письмо еще два дня лежало у нее в кармане. Оно обжигало руки, когда они нечаянно касались шероховатой бумаги, леденило душу, когда Зиночка о нем вспоминала. В сердце все же жила маленькая надежда: «Может быть, он все-таки придет?»
Но Виталия Андреевича не было. И, отчаявшись, она решила опустить послание в широкий зев почтового ящика.
«Вешайся, лучший выход!»
У Виталия Андреевича болела спина и начала появляться одышка. Ныли поясница и ноги, больные ревматизмом, лучше всякого барометра предсказывая малейшее изменение погоды. Должно быть, сказывались годы войны, ночевки на снегу, бодрствования в болотистой воде. Последнее время он жаловался и жене и сослуживцам на переутомление.
— Надо бы отдохнуть. Но некогда. Вот дотяну до лета, тогда и подлечусь где-нибудь на юге.
Когда Мазурук ворвался в кабинет Виталия Андреевича, то застал Дробота в неестественной позе. Тот полулежал в кресле, положив ноги на стул. Директор не изменил своей позы и при появлении гостя.
Мазурук шумно пододвинул к себе стул, бросился на его сидение.
— Лежишь?
— Утомился я что-то за последнее время. Сердце с перебоями работает. Врачи прописали бром.