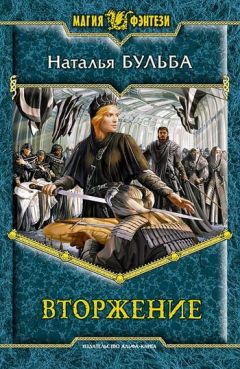Марк Казанин - Рубин эмира бухарского
Подойдя ближе, мы увидели, что шло препирательство между молодым высоким военным в галифе, с небольшим щегольским револьвером у пояса, и начальником станции, который упрямо, по-видимому в сотый раз, повторял:
– Вагон дальше идти не может. Надо менять бандажи. Другого классного вагона у нас нет, но, может быть, этот в течение суток приведем в порядок. Безобразие, что вас пропустили без осмотра на Званке.
– Так что же? – уже беспомощно, видимо сдаваясь, спросил молодой человек с револьвером. Это был, как видно, комендант нашего эшелона.
– Ну вот, сгружайте вещи, если не хотите, чтобы их увезли с вагоном в депо, и ждите. Я дам вам где поместиться. Эшелон ваш я с этого пути не сдвину, а завтра в это время тронетесь, – ответил начальник станции.
– Выгружаться! – скомандовал комендант и пошел вдоль поезда. – Предупредите всех в вашем вагоне, – сказал он нам.
Началась обычная в таких случаях суматоха. Толмачев и Листер поднялись к себе. Паша ушел по какому-то делу с комендантом, на ходу бросив мне и Кате:
– Зайдите в купе к Ратаевскому, пусть выгружается, а если его нет, возьмите его вещи и перенесите.
Мы с Катей постучали в последнее купе, но никто не отозвался. Тогда я открыл дверь, взял вещи Ратаевского, скатал в одеяло, и мы вышли. Катя спрыгнула первой, я протянул ей узел. В это время поезд дернуло (очевидно, маневровый паровоз пробовал свои силы), узел ударился о поручни вагона, развалился, и его содержимое рассыпалось по земле. Мы с Катей бросились собирать.
Внезапно Катя покраснела, как краснеют только очень молодые девушки. Она держала что-то в руках, не подымаясь и не глядя мне в лицо. Я наклонился к ней. Катя подняла глаза, и я увидел, что они были совсем темные от гнева.
Я ничего не сказал, но если бы Ратаевский был там, не колеблясь загнал бы его под колеса.
В это время подошел Паша с тяжелым ящиком на плечах. У него реакция была быстрее и четче, чем у меня, да и жизненный опыт несравненно больше моего. Одного взгляда ему оказалось достаточно, чтобы понять, в чем состояла причина замешательства. Он поставил ящик, взял с Катиной ладони находку, сунул ее в карман, вновь взвалил ящик на спину и сделал нам знак следовать за ним на вокзал.
5Начальник станции поместил нас в строении в конце платформы, где когда-то была багажная касса и сарай. Александра Ивановна и Катя устроились в кассовой будке, где еще сохранилась небольшая плита, которую Паша тут же растопил, а мы – в прилегающем к ней сарае.
Вечером, после вкусного чая в кассовой будке, женщины остались одни, как они сказали, помыться и постирать, мы же распрощались и ушли в сарай. Спать мы собирались на чудом уцелевших от набегов искателей топлива широких багажных полках. Пока старшие сидели на лавках вокруг ящика, на котором стоял принесенный из будки чай, Паша и я прилегли, чтоб не навязывать свое общество.
Листер и Толмачев продолжали начатый разговор.
– Как же вы смотрите на революцию, Владимир Николаевич? – спросил Листер.
– А никак, – ответил Толмачев, – она меня мало касается.
Листер молча посмотрел на Толмачева. Тот понял, что это был вопрос, и пояснил:
– Видите ли, что мужички поотбирали землю и поделили имения, никак меня не затрагивает, так как у меня никакой земли не было. Что же касается той области, которой я занимаюсь, то для нее, в конце концов, безразлично, что происходит на белом свете. Мы едем в Туркестан искать следы поселений более чем двухтысячелетней давности, основанных еще в эпоху Александра Великого; они погребены под мощными слоями песка, речных отложений, каменных осыпей, лёсса и нисколько не меняются оттого, что происходит на земле; даже наоборот, чем больше бурь, возмущений и катаклизмов наверху, тем более неизменными остаются, погребения, так как глубже уходят под землю; так же, как на морское дно не влияет, происходит буря на поверхности или нет. И потом, – продолжал Толмачев, – нельзя себя заставить определить свое отношение ко всему на свете. Вот, скажем, разразится гроза и вы спросите меня, как я к ней отношусь. Я не сумею вам ответить, плохо или хорошо, рад или не рад. Гроза есть гроза.
– Да, гроза есть гроза, – задумчиво подтвердил Листер.
– Но вы простите, Эспер Константинович, – продолжал Толмачев, – поскольку мы едем вместе, скажите: вы тоже из нашей братии археологов, хотя, признаюсь, я вашей фамилии не слыхивал?
– Нет, я солдат, – ответил Листер просто.
– Что же, участвовали в войне?
– Да, еще в японской.
– Артиллерист?
– Почему вы так думаете?
– Так мне показалось. Впрочем, прошу прощения, я, кажется, низко взял. Генерального штаба?
– Нет, – рассмеялся Листер, – вы угадали первый раз. Как раз артиллерист.
– Михайловского?
– Нет, Константиновского. Даже был фельдфебелем роты в училище.
Толмачев вздохнул:
– У меня двое сыновей легли, один еще в Восточной Пруссии, он был Михайловского, а другой – в Галиции. Вот мы с Александрой Ивановной и остались одни.
Листер промолчал.
Воцарилась пауза, такая грустная и такая знакомая в те годы, когда все считали ушедших.
– Ну, а вы как живете с большевиками? – прервал молчание Толмачев.
– Живу.
– Ведь вы кадровый?
– Кадровый.
– Ну и как?
– Да, как вы сказали: гроза есть гроза!
– Теперь это уже вы говорите, – улыбнулся Толмачев.
– Да ведь, в конце концов, – продолжал Листер, – отечество одно, народ один, служба одна, в основном ничего не меняется. Люди как деревья: если корни уходят достаточно глубоко, дерево переживет все бури.
Толмачев вздохнул.
– А как мы далеко от первого эшелона? – спросил он, видимо желая переменить тему.
– Комендант говорит, что потерял связь с ним. Первый эшелон вышел на неделю раньше нас, но на последней узловой станции выяснилось, что он не проходил. Надо полагать, изменил маршрут и от Бологого взял через Рыбинск. Теперь уж до Самарканда вряд ли увидимся.
– Который из наших двух эшелонов главный?
– Тот, первый. Там начальство, артисты и самое важное – вагон-кухня.
– Да, тогда тот главнее. А кто с нами едет?
– Насколько я вижу, – ответил Листер, – вы, ваша семья, моя скромная персона, Паша, его друг, назвавшийся Глебом (я замер), и третий молодой человек, Борис, отставший от труппы, по-видимому, актер.
Как раз в это время вошел Ратаевский.
– А вот и Борис, легок на помине, – сказал Толмачев. – Мы только что говорили о вас. Где вы пропадали?
– Был в городе.
– А мы тут перебирались. Что же вы нашли в городе?
– Да… – протянул Борис, – хотел посмотреть местный театр, думал встретить кого-нибудь из знакомых.
– Ну и как, повезло вам?
– Да, нет, – неопределенно ответил Ратаевский.
– Ну так вот, – вставил Листер, – мы говорили о вас и решили, что вы отставший от главного эшелона актер.
– Не актер, а помощник режиссера, по-советски – помреж.
– Ах, простите! – чуть насмешливо отозвался Листер.
– Начинающий, – быстро поправился Борис.
– Опера или драма?
– Ни то, ни другое, новый театр, – ответил Борис – Но я, конечно, пока не работаю самостоятельно.
– Но вы так молоды, – тянул Листер. – Я представлял себе режиссеров не иначе, как убеленных сединами.
– Да, так было, а теперь все переменилось.
– Помолодел театр?
– Да, отчасти помолодел.
– Тогда это хорошо.
Ратаевский внезапно вспылил:
– Что хорошего? Все разорено, разогнано, опоганено.
Листер поднял брови:
– Что-то я не заметил по балету в Мариинском театре, чтобы все было опоганено. По-моему, все как полагается.
– Да! Вы не знаете, что делается внутри театра. Там сейчас одни хамы! Вчерашние нищие!
Ратаевский был красен.
Паша заворочался на полке. Ратаевский замолк. Он, видимо, по разговору вначале не сомневался, что был среди своих, но внезапное молчание вызвало у него сомнение: не зашел ли он слишком далеко.
Но было уже поздно. Паша встал со своего места и стоял перед Ратаевским. Он был бледен, рот крепко сжат.
– Хамы? Нищие? А как называются люди, что воруют у нищих? Да еще у голодных, умирающих?
Ратаевский стоял, опешив. Краска начала сбегать с его лица. Все же он нашел в себе силы процедить:
– Я не понимаю.
– Не понимаешь? – Голос Паши звучал с невыразимым презрением. – А это понимаешь?
Он вынул из кармана золотой и протянул его на раскрытой ладони Ратаевскому.
Тот побледнел и отступил. Он стал тенью того, чем был минуту тому назад.
– Не знаю, что вы хотите, – бормотал он. – Что вы мне показываете?
– Не знаешь? – Углы губ Паши брезгливо опустились вниз. – А воровать знаешь? «Хамы! Нищие»! Тогда ты кто, если нищих обкрадываешь?
– Что вы ко мне пристали? – внезапно нервно взвизгнул Борис. – Я ничего не знаю.