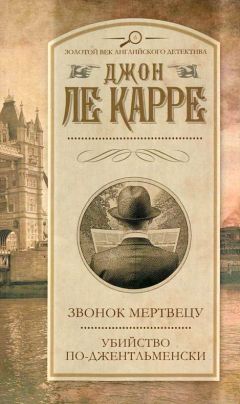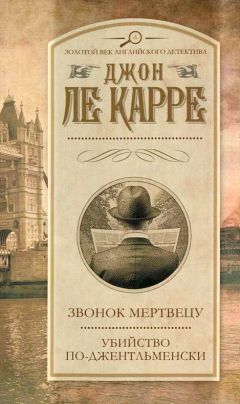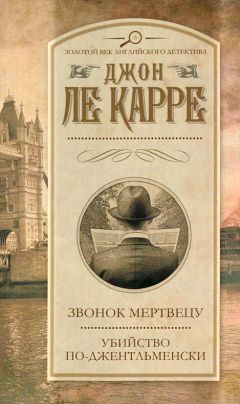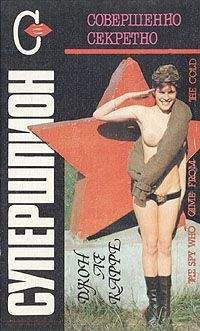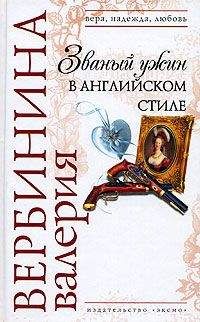Джон Ле Карре - Звонок мертвецу
Он поднялся и подошел к угловому шкафу, где стояла эта группа. Смайли мог часами любоваться красотой этих фигурок: крошечная придворная дама в стиле рококо, переодевшаяся пастушкой, протягивала руки к одному обожателю, а личико свое слегка повернула в сторону другого, бросая на него кокетливые взгляды. Он ощущал свою громоздкость и неуклюжесть перед этим хрупким совершенством, точно так же, как чувствовал себя, когда начал первый свой приступ на завоевание сердца Энн — на удивление всему обществу. Но эти фигурки вносили умиротворение в его исстрадавшуюся душу: бесполезно было ожидать верности от Энн, точно так же как обожатели не могли ожидать верности и от этой пастушки в стеклянном футляре. Стид-Эспри приобрел эту группу в Дрездене еще до войны, она стала жемчужиной его коллекции, но он подарил эту жемчужину им. Быть может, он догадывался, что в один прекрасный день Смайли найдет утешение в простой и немудреной житейской философии, заключенной в этом подарке.
Дрезден… Из всех городов Германии он был самым любимым. Смайли любил его архитектуру, это причудливое смешение средневековых и классических зданий, чем-то напоминавшее ему Оксфорд, любил его купола, башни и шпили, медно-зеленые крыши, сверкавшие под жарким солнцем. Название его означало «город лесных жителей», и именно в нем, этом городе, Венцеслав Богемский одаривал своих поэтов-менестрелей привилегиями, осыпал подарками. Смайли припомнил тот последний визит в Дрезден, когда он навещал своего университетского приятеля, профессора филологии, с которым познакомился еще в Англии. Как раз тогда, в тот визит, он и увидел Дитера Фрея, через силу ковылявшего по периметру тюремного двора. Он и сейчас хорошо помнит его: высокий, яростный, с выбритой до почти полной неузнаваемости головой, кажущийся непомерно большим для этой тюрьмы.
Дрезден — это ведь родной город и для Эльзы. Он помнил, как проглядывал ее личное дело в министерстве: «Эльза Феннан, в девичестве Фрейман, родилась в 1917 году в Дрездене, Германия, от германских родителей, обучалась в Дрездене, находилась в тюремном заключении с 1938 по 1945 год…» Смайли попытался представить себе Эльзу на фоне ее дома, патрицианской еврейской семьи, живущей среди оскорблений и преследований. «Я мечтала о длинных золотых прядях волос, а они обрили мне голову». Ему до тошноты стало ясно, почему она красит волосы. Она могла стать такой же, как его пастушка, — круглогрудой и крутобедрой, краснощекой и кокетливой. Они иссушили и сломали ее тело, оно стало угловатым и худым, как скелет их маленькой пичуги.
Смайли живо представил себе Эльзу той страшной ночью, когда она нашла дома труп мужа и убийцу рядом, представил, как она, задыхаясь от слез, сбивчиво объяснила убийце, почему Феннан оказался в парке рядом со Смайли. Он представил себе и Мундта, холодного и логичного, убеждающего ее, склоняющего и уговорившего, убедившего в конце концов продолжить игру. Хочет она того или нет, доказывал Мундт, она обязана позвонить в театр, обязана напечатать предсмертное письмо, обязана играть свою роль убитой горем жены самоубийцы, оклеветанного и не вынесшего позора. Это было невероятно, бесчеловечно, и, добавил про себя Смайли, это был фантастический риск, на который почему-то пошел Мундт.
Надо сказать, Эльза показала себя в прошлом надежным партнером и связной, хладнокровной и, как это ни удивительно, более умелой в делах конспирации, чем Феннан, из нее получался прекрасный шпион. Да и, надо отдать ей должное, после подобной ночи ее поведение было безупречным.
Стоя так и разглядывая пастушку и ее двух обожателей, Смайли спокойно анализировал ситуацию, и все стало сходиться, концы в деле Феннана начинали занимать положенные им места. Он нашел совсем другое решение загадки, решение, которое согласовывалось со всеми обстоятельствами, укладывалось в одну логическую картину, учитывало все странности характера, непоследовательность поступков Феннана. Это решение вырастало из простой арифметической задачи, не имеющей отношения к действующим лицам, — Смайли передвигал их, как кусочки сборной картинки, передвигал туда-сюда таким образом, чтобы они вписывались в сложный каркас установленных фактов. И тогда в какой-то момент рисунок стал таким отчетливым, что это уже перестало быть игрой.
Сердце Смайли забилось учащенно, изумление его росло с каждым шагом последовательного анализа всей этой истории заново, когда сцены и происшествия в свете его догадки рисовались теперь иначе. Смайли стало ясно, почему Мундт покинул Англию именно в тот день, почему Феннан выбирал так мало ценного для Дитера, почему заказал тот звонок на коммутаторе станции на 8.30 и почему его жена избежала убийственной жестокости Мундта. Теперь он знал наконец, кто написал анонимный донос. Он понял, каким же был дураком, излишне поддавшись чувствам и эмоциям, упорно отвергая то, что подсказывал ему его ум, подсказывала сама логика.
Он подошел к телефону и набрал номер Менделя. Поговорив с ним, тут же позвонил Питеру Гиллэму. Потом Смайли надел шляпу, вышел из дома и здесь же, на Слоун-сквер, в маленькой почтовой лавке около «Питера Джонса» купил почтовую открытку с видом Вестминстерского аббатства, дошел до подземки и проехал на север до Хайгейта. На почтамте он купил марку и, написав адрес жестким континентальным почерком, отправил открытку Эльзе Феннан. Текст послания был простым и резким: «Как жаль, что тебя здесь нет». Опустив открытку, Смайли заметил время и вернулся на Слоун-сквер. Ничего больше сейчас сделать было невозможно.
Той ночью Смайли спал крепко и, выспавшийся, поднялся рано поутру. Купив французских булочек и кофе в зернах, он сварил себе большое количество кофе и, сидя на кухне, завтракал и читал «Таймс». Забавно, но Смайли чувствовал себя абсолютно спокойным, и, когда зазвонил телефон, он аккуратно сложил газету, прежде чем отправиться наверх и ответить на долгожданный звонок.
— Джордж, это Питер, — голос был почти торжествующий. — Джордж, она клюнула на приманку, клянусь, она клюнула.
— Как это произошло?
— Почта пришла в 8.35. В 9.30 она уже шагала к калитке. Прошла прямо к железнодорожной станции и села на поезд 9.52 до Виктории. Я посадил на поезд Менделя, а сам погнал на машине, но опоздал к прибытию поезда на конечную станцию.
— Как ты теперь будешь поддерживать с Менделем связь?
— Я дал ему телефон Гросвенор-отеля, откуда тебе и звоню. Он сюда позвонит сразу же, как только сможет, и я к нему подъеду, где бы он ни находился.
— Питер, все надо сделать очень мягко, хорошо?
— Кошачьими лапками, старина. Она, кажется, совсем голову потеряла. Несется, как борзая.
Смайли дал отбой. Он взял в руки «Таймс» и принялся изучать театральную колонку. Не мог он ошибиться… не мог.
После этого телефонного разговора утро тянулось невыносимо медленно. Иногда он подходил к окну и, засунув руки в карманы, смотрел на длинноногих кенсингтонских девушек, шествовавших на пару с молодыми людьми в бледно-голубых пуловерах за покупками, наблюдал за счастливой трудолюбивой бригадой, мывшей машины, припаркованные перед их домами. Закончив работу, мойщики собирались в группы и серьезно обсуждали всякие автомобильные дела, потом они отправлялись, продолжая спорить по каким-то чрезвычайно важным для них вопросам, выпить первую пинту из уик-энда в ближайший паб.
Наконец через длиннейший промежуток времени, показавшийся ему вечностью, раздался звонок в дверь и вошли счастливые, голодные, как волки, Мендель и Гиллэм.
— Крючок, леска и грузило, — сказал Гиллэм. — Но пусть тебе все Мендель расскажет — ему пришлось сегодня основательно потрудиться. Мне оставалось лишь подсечь.
Мендель не заставил себя упрашивать, рассказав обо всех перипетиях обстоятельно и аккуратно, уперевшись взглядом в пол в нескольких футах перед собой и немного склонив набок голову на худой шее.
— Она села на поезд 9.52 и доехала до вокзала Виктория. В вагоне я держался в стороне и подхватил ее, когда она проходила турникеты. Потом она взяла такси до Хэммерсмита.
— Взяла такси? — перебил Смайли. — Она, видно, совсем обезумела.
— Что ты, сделала стойку, как коброчка. Однако для женщины она ходит довольно быстро, а по платформе вообще почти бежала. Вышла на Бродвее и пошла пешком до Шеридан-театра. Попробовала двери в кассу, но они были закрыты. С мгновение постояла в нерешительности, потом повернула обратно и прошла сотню ярдов до кафе. Заказала себе кофе, причем, заметьте, заплатила сразу. Минут через сорок вернулась к театру. Касса была открыта, я нырнул в очередь за ней. Она купила два билета в задние ряды партера, ряд Т, места 27 и 28. Когда вышла из театра, то положила один билет в конверт и заклеила его. Потом она отправила конверт. Я не видел адреса, но марка была шестипенсовая.