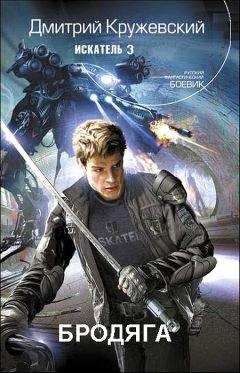Треваньян - Шибуми
– Ты не должен относиться к этому так легкомысленно; нельзя забывать языки, особенно английский. Я не в состоянии буду помочь тебе чем-либо, когда эта война наконец закончится, Тебе не на что будет опереться в жизни, кроме как на твое знание и способности к языкам.
– Вы говорите так, будто война уже проиграна, сэр.
Кисикава-сан долго молчал, и Николай видел, какое грустное и усталое у него лицо; в лунном свете черты его были чуть размыты, и оно казалось очень бледным.
– Все войны в конечном счете заканчиваются поражением, Никко. Для обеих сторон. Прошли те дни, когда воины, которых с детства готовили к битвам, встречались лицом к лицу на поле боя. Теперь войны ведутся между двумя противостоящими друг другу, мощными индустриальными державами, между двумя народами. Русские своей бесчисленной безликой массой навалятся на немцев и сомнут их. Американцы с их несчетными заводами и фабриками раздавят нас. Вот к чему все придет в конце концов.
– Что вы будете делать, когда это случится, сэр?
Генерал медленно покачал головой:
– Это не имеет значения. Я выполню мой долг до конца. Я буду продолжать работать по шестнадцать часов в сутки, решая мелкие административные вопросы. Надо вести себя как и полагается патриоту.
Николай взглянул на него с удивлением. Он никогда еще не слышал, чтобы Кисикава-сан говорил о патриотизме.
На губах генерала промелькнула легкая усмешка.
– Да, да, Никко. В конечном счете я патриот, и в этом мое сходство с теми, кто горой стоит за политическую систему, или идеологию, или военные оркестры, или за хиномару. Патриот таких вот садов, как этот, праздников луны и тонкостей го, песен женщин, сажающих рис, и вишен в их коротком цветении – всего, что по-настоящему и есть Япония. Я знаю, что мы не сможем выиграть эту войну, но это никак не влияет на то, что я должен до конца выполнять мой долг, и я выполню его. Ты понимаешь, что я хочу сказать, Никко?
– Только слова, сэр.
Генерал усмехнулся.
– Быть может, кроме них, и нет ничего. А теперь иди спать, Никко. Дай мне посидеть здесь немного одному. Я уеду рано утром, еще до того, как ты встанешь, но мне было очень приятно провести эти недолгие часы с тобой.
Николай молча наклонил голову и поднялся. Еще долгое время после его ухода генерал сидел неподвижно, глядя на тихий сад, залитый лунным светом.
Уже позднее Николай узнал, что генерал Кисикава пытался оставить Отакэ-сан деньги на содержание и обучение своего подопечного, однако тот отказался наотрез, заявив, что, если Николай действительно такой недостойный ученик, как утверждает генерал, с его стороны было бы неэтично принимать плату за обучение. Генерал улыбнулся и покачал головой; ничего не поделаешь – он вынужден был покориться.
* * *Громадный вал войны, точно приливная волна, нахлынул на Японию, напрягавшую последние силы и все ограниченные возможности своего промышленного производства в тяжелой, изнурительной борьбе, надеясь заключить мир на благоприятных условиях. Первые признаки неминуемого поражения сквозили в истерическом фанатизме радиопередач, которые должны были поддержать и укрепить боевой дух армии и народа, в выступлениях тех, кому удалось спастись от опустошительных бомбардировок жилых кварталов американскими самолетами, в постоянно возрастающей нехватке самых насущных, необходимых вещей.
Даже в сельской местности, в их маленькой деревушке, окруженной полями, с едой было очень трудно, особенно после того, как земледельцы сдали свои продовольственные поставки. Не раз семье Отакэ приходилось питаться дзосуи – жидкой кашицей из мелко нарезанной морковки и ботвы молодой репы с вареным рисом, которая могла показаться более или менее съедобной только благодаря неистощимому юмору и шуткам Отакэ-сан. Он ел ее, восхищенно всплескивая руками, причмокивая от удовольствия, закатывая глаза, точно в экстазе, и так удовлетворенно похлопывая себя по животу, что и дети, и ученики его не могли удержаться от смеха, начисто забывая при этом, какой безвкусной и вязкой массой на самом деле наполнен их рот. Поначалу к беженцам из города в деревне относились с сочувствием, о них заботились; однако со временем их присутствие начинало становиться все более обременительным, на них стали поглядывать просто как на дармоедов, которых нечем кормить; о них говорили теперь несколько уничижительно, называя их всех словечком “сокайдзин”. Крестьяне потихоньку начинали роптать, возмущаясь этими трутнями, занимавшими прежде высокие посты и имевшими достаточно денег, для того чтобы укрыться от всех ужасов войны в их маленькой деревушке, но при этом не способными ни на какую работу и не умевшими содержать себя самостоятельно.
Отакэ-сан в своей скромной жизни позволял себе одну маленькую роскошь – иметь небольшой, аккуратно распланированный и подстриженный садик. Позднее, когда война затянулась, он перекопал его, превратив в огород, кормивший всю семью. Однако, следуя своим взглядам, он засадил грядки репой, морковью и редиской вперемешку, так, чтобы листья их, поднимающиеся над землей, создавали картину, приятную для глаз.
– Конечно, так сложнее ухаживать за ними, выпалывать сорняки, – признавался он. – Однако если в нашем отчаянном, безумном стремлении выжить мы отречемся от красоты – тогда можно считать, что варвары уже победили нас.
Время от времени правительственное радиовещание вынуждено было признаваться то в случайно проигранной битве, то в потере очередного острова; не сделать этого, когда люди видели, как возвращаются с фронта раненые солдаты, и слышали их рассказы о том, что происходит на самом деле, – значило бы лишить эти передачи последней видимости правдоподобия. Каждый раз, когда по радио объявляли об очередном поражении японской армии (обязательно объясняя его временным, тактическим отступлением, или перегруппировкой и реорганизацией линий обороны, или преднамеренным сокращением линий поддержки), передача заканчивалась звуками старой, всеми любимой песни “Уми Юкаба”, печальная осенняя мелодия которой стала ассоциироваться с этим сумрачным, безысходным временем потерь.
Теперь Отакэ-сан очень редко выезжал куда-нибудь на чемпионаты по го, так как почти весь транспорт страны был отдан на военные и промышленные нужды. Однако матчи по этой национальной японской игре все же не прекращались окончательно, и время от времени в газетах появлялись сообщения о наиболее значительных состязаниях, поскольку все понимали, что го это и есть, собственно, та древняя традиция, та изысканная, утонченная культура, за которую они сражались.
Сопровождая своего учителя на эти, ставшие теперь такими редкими, соревнования, Николай повсюду видел следы войны: разрушенные города, людей, оставшихся без крыши над головой. Однако бомбардировки не сломили дух народа. Утверждение о том, что стратегические, то есть направленные против мирного населения, бомбардировки могли подавить волю людей к борьбе, – оказались нелепой выдумкой. В Англии, Германии и Японии результат таких стратегических бомбардировок был один и тот же – трудности, перенесенные сообща, закаляли дух людей, объединяли их, крепили их волю к сопротивлению.
Однажды их поезд из-за повреждения железнодорожных путей на несколько часов застрял на станции. Николай, выйдя из вагона, не спеша прогуливался взад и вперед по перрону. Вдоль всего фасада здания вокзала стояли ряды носилок с ранеными солдатами, которых собирались отправить в госпитали. Лица некоторых из них посерели от боли. Они лежали, напряженно вытянувшись, стараясь не показать своих страданий; ни разу никто из них не вскрикнул, не было слышно даже ни единого стона. Старики и дети переходили от носилок к носилкам, глядя на раненых глазами, полными слез и сострадания, низко кланяясь каждому солдату и бормоча:
– Спасибо. Спасибо. Гокуро сама. Гокуро сама.
Какая-то сгорбленная старая женщина подошла совсем близко к Николаю, пристально вглядываясь в его европейское лицо с необычными, цвета бутылочного стекла, глазами. Она смотрела на него без тени ненависти, со смешанным выражением недоумения и разочарования. Затем грустно покачала головой и отвернулась.
Николай отошел в дальний конец платформы, туда, где не было людей, и сел там, глядя на вскипающие, точно белые гребни волн, облака. Он расслабился, сосредоточив на них свой взгляд, всматриваясь в их гущу, в медленное круженье пенистых водоворотов, и вскоре перенесся в свои мистические дали, уйдя от окружающего, став недостижимым для всего происходящего вокруг, неуязвимым для упреков в чуждой расовой несовместимости.
* * *Второй раз генерал посетил Николая в самом конце войны. Однажды прекрасным весенним днем он появился в деревушке без всякого предупреждения и после короткой беседы с глазу на глаз с Отакэ-сан пригласил Николая поехать с ним посмотреть на цветенье вишен в окрестностях Ниигаты, на берегу Каджикавы. Их путь лежал от побережья в глубь страны, через горы. Поезд вез их на север, по промышленной зоне, узкой полосой протянувшейся между Иокогамой и Токио. Медленно, с бесконечными остановками, состав полз по весьма ненадежной, наполовину разрушенной бомбежкой и перегрузками дороге; по сторонам ее миля за милей тянулись горы развороченных булыжников и развалин – последствия непрерывных “ковровых” бомбардировок, сровнявших с землей жилые дома и фабрики, школы и храмы, магазины, театры и больницы. Груды обломков доходили человеку до пояса, и вокруг на многие мили не осталось ни одного предмета или здания, которые хоть немного возвышались бы над этой мертвой равниной, – разве что кое-где торчал зазубренный, изуродованный обрубок трубы.