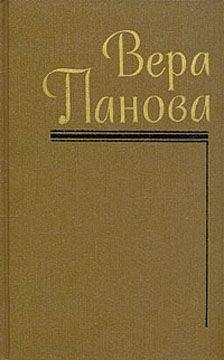Борис Рабичкин - Белая бабочка
После первых тостов поднялся немолодой худощавый немец в светлом пиджаке и квадратных роговых очках, сидевший рядом с Сергеем Ивановичем.
— Геноссе Лаврентьев, дорогие друзья! За этим необычным столом, — немец взглянул на канфар, который он держал в руке, — были сказаны добрые слова в адрес моего народа, нашей Демократической Республики. Спасибо за них. Мы, немцы, глубоко уважаем нашего любезного хозяина профессора Лаврентьева. Хочу присоединиться к замечательным словам, которые геноссе Лаврентьев недавно произнес на конгрессе мира: «Пусть на нашей планете никогда больше не будет руин, кроме тех, — гость сделал жест в сторону раскопок, — которые открывают археологи — люди самой мирной профессии». Разрешите, геноссе, из этого древнего бокала выпить за человека, за мир, за цивилизацию, которую человечество рождало в тяжких муках не для того, чтобы еще в более страшных муках похоронить ее плоды.
Все зааплодировали. Оратор обменялся с Лаврентьевым долгим рукопожатием. Обед продолжался в шумной и непринужденной обстановке...
К Лаврентьеву подошел его шофер и что-то сказал. Сергей Иванович какую-то секунду подумал и тотчас глазами показал на Тургина.
— Павел Александрович, — шофер склонился к уху Тургина, — выручайте. Тут неувязка с машиной получилась. Одну из тех, что гостей привезли, отпустили, а у меня, как назло, мотор отказал.
— Ладно, Фомич, не волнуйся, на своей повезу.
— Вы уж тут малость не допейте, — шутил шофер, — на шоссе вреднющий автоинспектор, не посмотрит, что гостей везете.
Но Тургину было не до шуток. Его внимание привлек другой разговор. Всматриваясь в лицо Шелеха, его сосед-немец неуверенно произнес:
— Геноссе, смотрю на вас, и мне кажется — знакомое лицо.
— К сожалению, я еще в Германии не был.
— А я, к сожалению, в России уже бывал... В войну вам тут не приходилось жить?
— В войну всякое бывало, — уклончиво ответил Шелех.
— А в Южноморске жили?
Шелех как бы не расслышал. Прошла секунда-другая, и, выбрав момент, он поднялся и, теребя бородку, произнес свой тост:
— Говорят, археологи народ неразговорчивый. Разрешите мне быть совсем кратким. Non multa, sed multum... Немного, но многое. Друзья, за нашу дружбу!
И Шелех зааплодировал вместе со всеми.
Ни одного слова из этого разговора не пропустил Тургин, который, казалось, теперь был целиком поглощен беседой со своим соседом — машинистом из Дрезденского депо.
Обед кончился засветло. У ворот заповедника, над которыми висело полотнище с надписью на русском и немецком языках: «Добро пожаловать», уже ждало несколько «Побед».
Хозяева прощались с гостями. Последние рукопожатия, обмен адресами. Лаврентьев что-то записывал в блокнот. Тургин разговаривал с немцем, который был соседом Шелеха, И тоже записывал в книжку адрес своего нового знакомого:
«Роберт Гофман. Берлин. Улица Розы Люксембург».
Когда стали рассаживаться по машинам, он пригласил своего собеседника сесть рядом с собой.
Еще две-три минуты, и колонна отправилась в путь.
Тургин вел машину молча, сосредоточив все внимание на дороге. Молчал и сидящий рядом немец. Он пристально смотрел в боковое стекло.
Когда вдали показался лес, Тургин нарушил молчание:
— Вы так смотрите, словно узнаёте знакомые места.
— Да, знакомый лес.
— Это не тот лес, что был на пути из Южноморска, — заметил Тургин, — мы ведь едем по другой дороге.
— Я вижу.
Неожиданно откуда-то слева, почти перед самым радиатором, ухарски въехал на шоссе паренек на велосипеде. Павел Александрович резко направил машину в объезд велосипедиста. Одновременно с Тургиным его сосед инстинктивно сделал движение, как бы желая взяться за руль. Это не ускользнуло от Тургина.
— Вы водите машину?
Немец улыбнулся:
— Геноссе, я тридцать лет вожу машину.
Стала видна лесная опушка. Теперь немец глядел в окно с каким-то напряжением. Машина поравнялась с огромным раскидистым дубом.
— Красив старик. Он, конечно, старше нас с вами. — Тургин показал на дерево.
— А я его видел и без листьев...
— Вы здесь не впервые?
Немец вздохнул:
— Когда служил в гараже южноморской, комендатуры, не думал, что приеду сюда почетным гостем... Не хочется вспоминать те страшные годы...
Спутники снова замолчали.
На протяжении многих километров шоссе шло через густой лес и казалось широкой бесконечной асфальтированной просекой.
— Мне этот лес хорошо запомнился, — вдруг задумчиво произнес немец.
— Почему же? — поинтересовался Тургин.
— Das ist eine alte Geschichte...[4] Вез я однажды из Южноморска арестованного русского. Машина открытая, по бокам дна автоматчика. Они еще ругались, чтобы потише ехать: дорога тогда была плохая. И вот, как поравнялись с тем деревом, арестованный соскочил — и бежать. Возле дуба споткнулся, поднялся — и в лес. А наши автоматчики даже машину не остановили. Постреляли по сторонам — и всё...
— А что это был за человек?
— Не знаю. Только сегодня мне вдруг показалось, будто вижу похожего на него. Конечно, обознался.
— А у вас память завидная.
— Как же было не запомнить, если это случилось в день моей серебряной свадьбы. Только собрался было жене написать, а тут звонят из комендатуры — машину требуют.
— Я уверен, золотую свадьбу вы лучше отметите. Когда смогу вас поздравить?
— Двенадцатого ноября 1968 года...
Когда Тургин на обратном пути проезжал мимо Южноморского музея, он невольно чуть притормозил. Был уже поздний вечер, и снятые с курганов каменные бабы стояли у стен и на дорожках, будто застывшие сторожа.
Житие Якова Стасюка
Среди двух миллиардов людей, населявших землю в бурные двадцатые годы двадцатого века, затерялся где-то на планете человек по имени Яков Стасюк.
Восьми лет его, круглого сироту, отдали в монастырь, и в Добромиле среди монахов-василиан появился новый послушник.
Если бы не случай, тщедушный послушник с лицом цвета восковой свечи, которую он держал во время богослужения, скоротал бы, вероятно, всю свою жизнь за стенами монастыря. Но как-то раз в Добромиль пожаловал сам митрополит Андрей.
Хитрый дипломат, который, надев рясу, из кавалерийского офицера и светского льва венских салонов превратился в князя униатской церкви, любил слыть филантропом.
Серые пристальные глаза шестидесятилетнего митрополита остановились на усталом, печальном, не по-детски серьезном лице маленького послушника, прислуживавшего игумену. Когда кончилась служба, судьба послушника, на которого пал взор пастыря всех униатов, была определена.
Испуганный, стоял он перед митрополитом, окруженным многочисленным клиром в парчовых ризах, и слушал высочайшую волю.
У графа Андрея была цепкая память. Когда через четыре года Яков Стасюк окончил духовное училище, он был послан не дьячком в сельскую парафию, а на обучение к каноникам униатской семинарии. Она находилась по соседству с дворцом графа Андрея, и молились семинаристы в одной церкви с митрополитом.
Греховная зависть снедала сердца семинаристов, не раз бывавших свидетелями того, как сам пастырь благосклонно снисходил до разговора со Стасюком.
Митрополит не ошибся в своем выборе. Обратив внимание на сироту-послушника с единственной целью лишний раз продемонстрировать свое великодушие, он вскоре убедился, что может иметь надежного служку. За десять лет монахи-василиане — родные братья иезуитов — и униатские пастыри сделали из Якова послушного исполнителя воли господа, чьими наместниками на земле они назвались.
Митрополит оценил в Стасюке не только его преданность догматам католической церкви. Квелый, тихий и замкнутый семинарист был силен в книжной науке и знал несколько языков.
Это и привело его из пропахших по́том, лампадным маслом и воском семинарских дортуаров во дворец митрополита, стоявший рядом, на горе святого Юра.
Молодой служка из митрополичьего клира смотрел на мир сквозь толстые оконные стекла огромного зала, почти сплошь уставленного шкафами с сочинениями и проповедями отцов церкви. В свои восемнадцать лет он искренне верил, что его церковь призвана исправить суетный и несовершенный людской мир, в котором он и сам хлебнул сиротского горя. Только она — посредник между богом и человеком, получившим жизнь из рук всевышнего, — способна наставить людей на путь истины.
В сознании молодого Стасюка митрополит Андрей был окружен ореолом святости и чудодейственной силы. Каноники из клира любили повторять историю о том, как в далекой заокеанском Йонкерсе еретики стреляли в приехавшего с проповедью митрополита Андрея и как пули отскакивали от него. Правда, теперь, когда святого пастыря всех униатов. будто простого смертного, паралич лишил ног, к этим рассказам возвращались вес реже и реже.
В сутане, с золотым крестом на бархате, неподвижно сидел он в черном лакированном кресле. Служки в этом кресле-коляске везли его в церковь. С кресла говорил он проповедь и, казалось, в этом немощном теле живет один только голос.