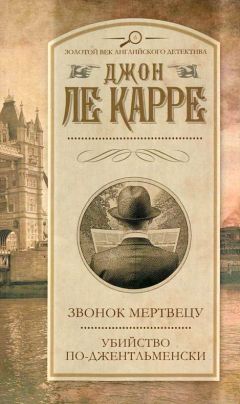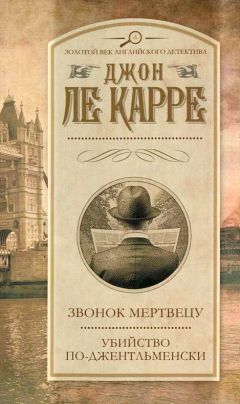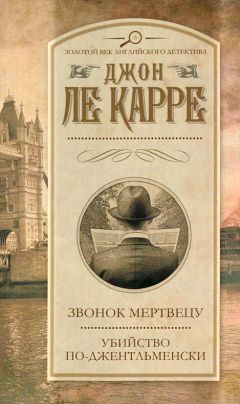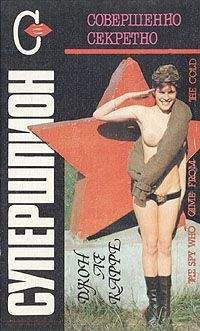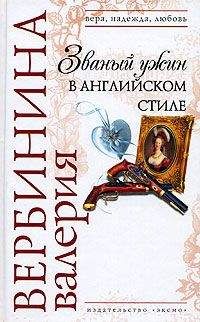Джон Ле Карре - Звонок мертвецу
Но Смайли был сентиментальным человеком, а его долгая командировка лишь усилила его любовь к Англии. Он сильно скучал по ней, перебирая оксфордские воспоминания. Ему снились осенние дни отдыха на Хартланд Ки, долгие и утомительные прогулки по корнуэллским утесам, он вновь, словно воочию, ощущал морской ветер на разгоряченном молодом лице. Это была его вторая, тайная и скрытая от всех жизнь, обостренная не только тоской по родине, но и тем, что происходило вокруг. Он возненавидел похабное вторжение новой Германии, марширующих и горланящих студентов в одинаковой униформе, их надменные лица со шрамами, дешевые и полуграмотные, однотипные ответы на занятиях. Ему противно было видеть, возмущало до глубины души то, что факультет сделал с его предметом, его любимой немецкой литературой. И еще была одна ночь, страшная ночь зимой 1937 года, когда Смайли стоял у окна и смотрел на огромный костер, разложенный во дворе университета: вокруг костра столпились сотни студентов, лица у них были ликующие и блестели при пляшущем свете пламени. В языческий костер они бросали сотни книг. Он знал, какие это были книги: Томас Манн, Гейне, Лессинг и многие, многие другие. Смайли стоял у окна, закрыв своей повлажневшей рукой огонек сигареты, смотрел, проникаясь ненавистью: он теперь точно знал, кто его враг.
Тридцать девятый год застал его в Швеции уже в качестве доверенного лица известного швейцарского производителя ручного огнестрельного оружия, по легенде связь его с фирмой была долголетней и эффективной. Внешность себе Смайли довольно успешно изменил, он обнаружил несомненный талант к лицедейству, основательно вжившись в свою роль, так что дело не ограничилось банальным изменением прически и короткими усиками-нашлепкой на верхней губе. В течение четырех лет подряд он раскатывал по Германии взад и вперед, курсируя между Швецией и Швейцарией. Никогда бы раньше ему и в голову не пришло, что можно так долго пребывать в постоянном страхе. Левый глаз его начал нервически подергиваться, тик оставался и пятнадцать лет спустя, напряженность лицевых мускулов избороздила его мясистые щеки и лоб глубокими морщинами. Он узнал, что можно, оказывается, очень долго не спать, не расслабляться, прислушиваясь в любое время дня и ночи к тревожному стуку своего сердца.
Смайли пришлось познать многое: крайности одиночества и жалость к самому себе, неожиданное и неуместное при определенных обстоятельствах желание обладать женщиной, потребность напиться или измотать организм физическими упражнениями и нагрузками — любой наркотик был годен — только бы снять страшное напряжение.
При наличии хорошей крыши он вел и свою истинную коммерцию, свою шпионскую деятельность. Со временем сеть его основательно расширилась и выросла, другие страны начали оправляться от последствий своей непредусмотрительности и неподготовленности. В 1943-м его отозвали. Через некоторое время, немного отдохнув, он рвался обратно на континент, но его не пустили:
— Ваша работа там закончена, — сказал ему Стид-Эспри, — готовьте новых людей, возьмите отпуск. Женитесь, наконец, или еще что-нибудь придумайте себе, но только отпустите свою пружину.
Смайли сделал предложение руки и сердца секретарше Стида-Эспри, леди Энн Серкомб.
Кончилась война. Он получил расчет и взял свою очаровательную жену с собой в Оксфорд, где собирался исследовать белые пятна в литературе Германии семнадцатого века. Но два года спустя леди Энн была уже на Кубе, а откровения молодого русского шифровальщика в Оттаве вновь возродили потребность общества в людях, имеющих опыт вроде того, что был у Смайли.
Работа была новая, угроза (реальная) для общества была невелика, и поначалу ему даже понравилось заниматься этим делом. Но приходили новые люди, более молодые и со свежими мозгами. Продвижение по службе уже не грозило Смайли, и постепенно до него стало доходить, что он дожил до среднего возраста, так никогда и не почувствовав всей прелести молодости, и что он — самым учтивым и милым образом — поставлен на полку.
Все изменилось. Стид-Эспри покинул эту цивилизацию и отправился на освоение более древней, в Индию. Джибиди погиб: в 1941 году он сел на поезд в Лилле в компании своей радистки, родом из Бельгии, и больше о них никто ничего не слышал. Филдинг тоже был не в счет — обвенчан на своей новой диссертации о Роланде. Остался только Мэстон, карьерист Мэстон, рекрут военного времени, советник министра по вопросам разведки и контрразведки, «первейший кандидат», как его окрестил когда-то Джибиди. Появление НАТО, отчаянные попытки, предпринятые американцами, изменили саму сущность работы Сикрет Сервис. Ушли в прошлое времена Стида-Эспри, когда, нравилось тебе это или нет, но приказы ты получал у него в комнатах или в клубе за рюмкой доброго старого портвейна. На смену вдохновенной любительской работе горстки высококвалифицированных и плохо оплачиваемых людей пришла другая эффективность, бюрократическая. Главным стало искусство интриги в большом правительственном департаменте, созданном не без активного участия опять же того самого Мэстона, с его дорогами и прекрасно сшитыми костюмами и дворянским титулом, с его живописной седой шевелюрой и серебристыми галстуками. Он оказался здесь как никто на месте, этот Мэстон, помнивший день рождения своей секретарши и о манерах которого ходили легенды среди дам министерской приемной. С вежливыми извинениями расширяя границы своей империи и с нескрываемым сожалением перебираясь во все более роскошные кабинеты, Мэстон устраивал у себя в Хенли роскошные приемы и не упускал случая поднять собственный авторитет за счет успехов своих подчиненных.
Его подсунули во время войны, профессионального бюрократа из цивильного департамента, человека, призванного работать с бумагами и совмещать красоту своих секретарш с громоздкой бюрократической машиной. Великим мира сего больше импонировал тип человека, им знакомый, который из любого цвета был в состоянии произвести только один — серый, человека, который знал, кто его хозяин, и с которым не стыдно было подниматься по служебной лестнице. А это он здорово умел делать! Им нравилась его робость, когда он извинялся за ту компанию, с которой ему приходится водиться на работе, нравилась и его неискренность, когда он защищал своих подчиненных, его гибкость в формулировках каких-либо обязательств. Но он никогда не отказывался от преимуществ, которые заключает в себе сфера деятельности плаща и кинжала, но только на свой манер: перед своими хозяевами он надевал плащ, а кинжал предоставлял вынимать своим подчиненным. Номинально Мэстон не являлся главой Сервис — он всего лишь советник министра по вопросам разведки и контрразведки и, как его раз и навсегда окрестил Стид-Эспри, Главный Евнух.
Это был совершенно новый для Смайли мир: ярко освещенные коридоры, ловкие и пронырливые люди. Он чувствовал себя скучным и старомодным, вспоминая с тоской ветхий дом с террасой, где все это зарождалось когда-то. Этот дискомфорт плачевно отражался и на его внешности: Смайли чаще горбился и больше, чем когда-либо, напоминал лягушку. Он часто моргал и получил прозвище «Крот». Но его молоденькая секретарша обожала своего шефа и говорила о нем не иначе как «мой милый плюшевый мишка».
Он был уже слишком стар, чтобы отправить его на агентурную работу за рубеж, и Мэстон высказался вполне определенно: «Знаете, старина, хотите вы этого или нет, но после того, как вы пошарили во время войны по Европе, вам там больше нечего делать, так что сидите, дорогуша, дома и поддерживайте огонь в камине».
Все это должно в какой-то степени помочь читателю понять то обстоятельство, что в два часа ночи в среду, 4 января, Джордж Смайли находился на заднем сиденье лондонского такси, направляясь к Кембридж Серкус.
2. Мы работали круглые сутки
В такси он чувствовал себя в безопасности. В безопасности и в тепле. Тепло было, правда, контрабандное, домашнее. Смайли захватил его из постели и теперь стремился тайно провезти через промозглую январскую ночь. Ну, а чувство безопасности возникало из-за ощущения нереальности происходящего. Ему казалось, что это не он, а его привидение катится в ночной час по улицам Лондона и наблюдает за несчастными искателями удовольствий, торопливо спешащими под своими зонтиками, подглядывает и за проститутками, обернутыми в полиэтилен, как подарки. Это не он, а его привидение выбралось из глубокого колодца сна и прекратило резкий трезвон телефона на столике у кровати…
«Почему это, — подумалось ему, — Лондон теряет ночью свое лицо, свою индивидуальность?» Смайли плотнее запахнул свое пальто и попытался припомнить еще хотя бы один такой же — от Лос-Анджелеса и до Берна — город, который бы по ночам так же безропотно становился совершенно безликим.