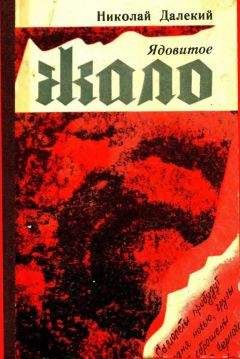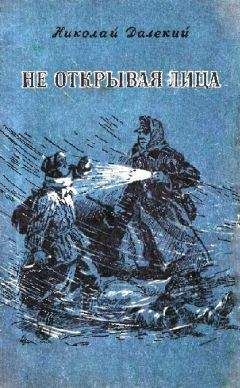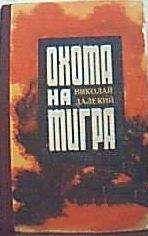Николай Далекий - Ромашка.
Солдаты и полицаи поста, выставленного на околице, грелись в крайней маленькой хате. Заслышав конский топот, крики, песню, хохот, они, захватив оружие, выбежали во двор, но опоздали — трое саней уже пронеслись мимо.
— Стой, черти! Хальт! Хальт!
Грозные крики и вскинутое на изготовку оружие не произвели нужного впечатления. Стоявший во весь рост на передке четвертых саней детина только оскалил зубы и огрел кнутом лошадей. Кто–то из сидевших на санях хрипло крикнул:
— Не хальтайте, дураки! Семеновка едет! Арестованных везем.
На пятых санях орали песню:
То не одна трава по–мя–та–а–а,
Помята девичья–а кра–са–а–а!
Солдаты беспокойно взглянули на полицаев.
— Пьяные черти, что с них взять? — с завистью покачал головой молодой полицай с угреватым лицом и, чтобы гитлеровцы поняли, выразительно щелкнул себя пальцами по острому кадыку: — Шнапс, самогон!
— Налетят на майора, он им пропишет, не один красной юшкой умоется, — мрачно высказался второй полицейский с опухшей, обвязанной шарфом щекой.
С последних саней на ходу спрыгнул молодой парень в черной смушковой шапке, натянутой почти на глаза. Лицо красное, веселое, руки в карманах шинели.
— Здорово, хлопцы! Хайль Гитлер! Как живете, самогонка есть?
— А вы разве не привезли? — засмеялся угреватый.
Но полицай с перевязанной щекой толкнул локтем под бок товарища и, отступив назад, поднял дуло карабина.
— Откуда приехали? Покажи документы!
Почувствовав неладное, солдаты также вскинули на изготовку автоматы. Только молодой угреватый полицай по–прежнему смеялся: он не испытывал никакой тревоги.
— У кого ты документы спрашиваешь? — возмутился приезжий. — У меня? А поцеловать меня в это самое место не хочешь?..
— Назад!! — заорал полицай с перевязанной щекой. Сверкая глазами, он щелкнул затвором, загоняя патрон в ствол. — Стрелять буду! Давай документ.
— Вы что, взбесились, хлопцы? — опешил парень.
— Я таких в Семеновке не знаю, — подозрительно поглядывая на него, сказал полицай.
— Дурак старый! Я не семеновский, я из Чернуш. Знаешь Чернуши? Нас десять человек оттуда на подмогу в Семеновку взяли.
— Ну, а документ у тебя все же есть? — уже беспокойно спросил угреватый. — Покажи бумагу — и делу конец.
— Пошли в хату, — сказал приезжий и шагнул к воротам.
— Стой! Зачем в хату?
Приезжий, казалось, не на шутку рассердился.
— Затем, что руки у меня задубели. Эх ты, тетя Мотя, полицай из тебя, как с моего носа дышло! Пятеро одного испугались. Не было бы обидно, а то свои…
— Свои–то как раз лошадей и уводят.
— Такая кляча мне и даром не нужна.
Парень огрызался, шел не спеша и на пороге хаты долго топал ногами, сбивая снег с сапог.
— Руки выйми! Что держишь в карманах?
— А как ты думаешь? Понюхай!
Приезжий засмеялся и, вытащив из карманов две гранаты — «лимонки», сунул их под нос полицаю с перевязанной щекой. Он стоял на пороге лицом к солдатам и полицаям, закрывая для них проход в сенцы.
— Хенде хох! — крикнули гитлеровцы.
Парень, смеясь, подчеркнуто торопливо исполнил приказ, поднял над головой руки с зажатыми в них гранатами. Он продолжал стоять в такой эффектной позе, насмешливо поглядывая на инстинктивно отпрянувших назад солдат и полицаев.
— Не балуйся, зараза! — заорал угреватый, бледнея. — Пожалуюсь майору.
Парень усмехнулся, опустил руки.
Он повернулся к дверям, но тут же замер, услышав отдаленный дробный раскат пулемета. Немцы и полицаи испуганно оглянулись. Парень вырвал зубами чеку, швырнул «лимонку» через плечо и, вскочив в сенцы, захлопнул дверь.
Ударили короткие автоматные очереди, пули изрешетили доски дверей, и тотчас же взрыв гранаты заглушил отчаянные крики и выстрелы.
…Двое передних саней прибывшего в Сосновку обоза шли близко друг от друга. Ездовые помахивали кнутами, горячили лошадей. Арестованные лежали, укрытые белыми ряднами. Впереди показалась площадь с темным плотным четырехугольником застывших в строю солдат. Словно не рассчитав, ездовые проскочили мимо ворот поповской усадьбы и, чтобы не врезаться в строй, круто повернули влево.
Маневр был проведен блестяще. Несколько конвоиров соскочило в снег. Сани на развороте вынесло вперед, и они стали рядышком. Тотчас же с «арестованных» были сорваны рядна, и очереди установленных на санях ручных пулеметов вспороли морозный воздух. Четырехугольник дрогнул, осел и превратился в бесформенное, быстро расползающееся по снегу пятно.
Теперь огонь вели со всех саней, успевших развернуться веером на площади. Партизаны расстреливали отряд карателей в упор.
К танкам бежало несколько человек. В открытом башенном люке одной из машин вспыхнуло и прогремело вырвавшееся столбом пламя, — граната была пущена точной рукой. На втором танке был убит солдат, пытавшийся залезть через люк в башню, но водитель успел занять свое место и завел мотор. Танк рванул вперед и выскочил на площадь. На его пути попались сани. Ездовой дико гикнул на лошадей, но гусеницы уже подмяли сани, и они треснули, словно спичечная коробка. Танк бешено развернулся вправо, влево, его пушка и пулеметы молчали, однако страшные гусеницы сделали свое дело — сани, ездовой и лошади оказались вдавленными, будто заутюженными в снег.
Партизаны бросились врассыпную.
— Куда? Трусы! — отчаянно закричал человек в полушубке и лисьей папахе. — Мишка! Тракторист!!
Кто–то уже успел вскочить сзади на танк и нырнуть в люк башни. Внезапно танк остановился как вкопанный, но мотор продолжал работать. Передний люк открыли и вытащили убитого водителя. Его место занял партизан, очевидно, тот Мишка–тракторист, которому кричал человек в лисьей папахе. Партизаны мгновенно оправились от охватившей было их растерянности и усилили огонь по убегающим гитлеровцам.
Человек в лисьей папахе подбежал к танку. В левой руке он держал автомат, с правой, повисшей, как плеть, стекала кровь.
— Все на месте? Гони! — крикнул он новому водителю. — Через село и — назад! Дави их! Люки! Люки закройте!
Гулко ухнула пушка, танк сорвался с места, развернулся и помчался по улице.
Самый острый, критический момент боя миновал.
Порывисто дыша, озираясь по сторонам, человек в лисьей папахе побежал к поповскому дому, перепрыгивая через трупы убитых. На крыльце его встретили два партизана, несшие чемодан, желтый портфель и полевые сумки.
— Барышня? — спросил он торопливым шепотом.
— Не найдем, товарищ командир, — пожал плечами партизан. — Вот ее чемодан с барахлом. А тут — документы штаба.
Лицо командира вытянулось и побледнело.
— Что?! — тихо и ожесточенно произнес он. — С ума сошли! Вам что было приказано?
— Сразу все обыскали. И дом, и вокруг.
— Под землей найдите. Ясно? Через пять минут представьте барышню. Живую, невредимую. Головой отвечаете.
На мгновенье командир прислушался к стрельбе и торопливо вошел в дом. Дверь на кухню была приоткрыта. На столе горела вставленная в горлышко бутылки оплывшая свеча. У стены стояли две дрожащие, заплаканные женщины. Снимая полушубок, командир посмотрел на них.
— Кто? Арестованные? Не плакать! Заберем вас с собой.
Женщина постарше зарыдала, ломая руки.
— Моего старого повесили. Ой, боже мой, боже!
Сцепив зубы, командир оборвал окровавленный рукав рубахи и осмотрел рану.
— Возьмите в кармане бинт. Перевяжите. Да скорее, тетя! Крепче стягивайте, не бойтесь! Вот так!
Левой рукой он помогал женщине накладывать бинт На рану и, чутко прислушиваясь к удалявшейся на край села стрельбе, осматривал кухню. В плите еще жарко пылали Дрова. На широкой скамье было свалено несколько тулупов и шинелей. В темном углу стояла кадка, косо накрытая деревянной крышкой.
— Вас допрашивали? Кто? — спросил командир у женщин, поглядывая на кадку.
— Офицеры.
— Переводчица была?
— Ага, дивчина.
— Где она?
— Разве мы знаем?
— Когда последний раз видели ее?
— А вот как били нас. Ну, полчаса назад.
Перевязку закончили. Морщась от боли, командир поспешно одел полушубок. По коридору кто–то пробежал, гремя сапогами.
— Ковальчук! — крикнул командир.
На пороге появился запыхавшийся партизан с электрическим фонарем, весь окутанный серой пыльной паутиной.
— Ну?
— Чердак осмотрели. Нет.
Партизан рванулся, чтобы продолжать поиски, но командир остановил его.
— Подожди. Товарищи женщины, берите шинели и выходите на двор. Держитесь возле саней. Дом поджигаем.
Женщины схватили лежавшие на скамье шинели и выбежали. Командир с каким–то напряженным и сосредоточенным выражением на лице шагнул в угол, к кадке. Тут он остановился, словно прислушиваясь к своему дыханию, и вдруг подкинул дулом автомата крышку.
Из кадки послышалось бульканье, стон, всхлипывание. Командир презрительно посмотрел на изумленного партизана.
— Не умеете искать, губошлепы! Где Сидоренко? Ану, вылазь. Вылазь, кому говорю!